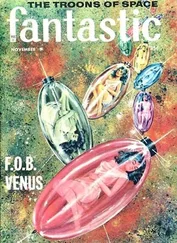Иногда я сажусь в машину и еду в Кейсарию. Там, среди раскопок древнего города–порта, есть развалины виллы, а может быть — только ее балкона, мысом вдающегося в море. Это вилла Пилата, его любимое место в ненавистной Иудее. Я приезжаю туда, стою на тех же плитах, на которых стаивал он, и смотрю на волны. Нет, его дух не витает над волнами, он не является мне среди брызг. Но что–то снисходит на меня. Что–то, что я не могу увезти с собой. Я даже уничтожаю это «что–то» в рыбном ресторанчике, среди звуков и запахов едальни. Но частица этого остается и дает силы продолжать свой сизифов труд, лепить пиксель к пикселю.
— Зачем опять мертвые цветы? — прошептала Тая. — Принеси мне лучше кактус в горшке. Живое.
Лазарский растерялся, отнес букет в столовую, поставил в пластиковую вазу без воды. Ваза секунду подумала и грохнулась, но Лазарский уже убегал по коридору в Таину палату.
Тая сказала твердым, своим, каким уже давно не говорила, голосом:
— Рины не было два дня. Завтра привези мне Рину.
— Так кактус или Рину?
— Рома, поздно веселиться. И повода нет. Завтра привези мне Рину.
Легко сказать — привези. Они с Риной давно уже порознь добирались до клиники. Глухие московские пробки он легче переносил в одиночестве, чем в тягостном молчании с дочерью. Ей тоже бывало невмоготу, и она опережала его на метро, хоть и с двумя пересадками. Он, бывало, выедет в клинику, оставив дочь дома, а входит в палату — та уже сидит у кровати матери, они о чем–то шепчутся или даже смеются.
Лазарский был удручен тем, что у Таи больше нет сил, чтобы притворяться. Все раздражение, вся усталость от нелюбви обрушилась на него в последние месяцы ее болезни. Тая еще жила, а актриса уже погибла.
Он опять вышел из палаты, чтобы налить букету воды, но ни вазы, ни букета в столовой не нашел. Почему–то вспомнил, как бросал ее восемнадцать лет назад. Как пристраивал ее в школьную агитбригаду. Дурак, вот дурак–то! Теперь она его бросит. И ей, в отличие от него, это удастся.
Когда он вернулся в палату, Рина, как ни в чем не бывало, сидела в кресле у постели и прятала в сумочку какой–то конверт.
— Так и не сыграла Маргариту… — прошептала Тая.
Медсестра принесла ужин, покормила больную, поменяла наклейки с обезболивающим средством. Рина и Лазарский на это время вышли в коридор.
— Что за конверт? — спросил он подозрительно.
— Да так. — сказала дочь, — Тебя не касается.
Не только жену теряет он, но и дочку.
Позвала медсестра из палаты.
— Мы побудем часов до девяти, хорошо? — начал было Лазарский.
— Простите, мне очень жаль. Ее не стало.
Как это — не стало? Ведь вот только что говорила, пила воду, требовала живого кактуса, передавала конверт. Рина разрыдалась. Медсестра ее в палату не пустила, только Лазарского. Собрала и отдала ему вещи, которые только что были Таиными, а теперь — ничьи, как отпавшие ступени ракеты, устремившейся в иные миры.
Катя — Клон
В Италии был Дино, в России — родители, а в Израиле — друзья и контракты. Миг, когда было написано письмо к Дино, давно прошел. Дино не смог заполнить собой всю ее жизнь. Для нее он был надежным тылом. Он хотел, чтобы Катерина никуда не ездила, чтобы осела, наконец, дома, родила ему сына. Катерина же все время ускользала, уносилась то в Москву, то в Тель — Авив.
В Москве, кроме родителей, был еще и Степан Орлов. Теперь он работал на Лазарского, того самого Лазарского, которого выкинул когда–то из его собственного кабинета, чтобы поговорить с Катериной.
Роман Лазарский занимался кинопрокатом, его фирма располагала лицензиями нескольких зарубежных студий. Своими связями в мире мирового кинематографа Лазарский был обязан папаше и Орлову, Орлов — Катерине, а Катерина — Фелишии.
Иногда мужу Фелишии, известному американскому кинорежиссеру Гарри Билдбергу, необходимо было появиться на людях с супругой в Европе. Фелишия же соглашалась сопровождать его в исключительных случаях, чаще ленилась. И тогда наступал выход Катерины. За хорошую плату она посещала вместо Фурдак кинофестивали, премьерные показы, презентации и церемонии вручения.
Играя роль жены великого режиссера, она старалась завязать как можно больше знакомств, которые потом передавала Орлову за щедрые откаты. Катерина не понимала, почему Билдберг соглашается на эти мистификации. Она боялась его. Боялась что–нибудь не то сказать. Боялась, что вдруг тот начнет приставать.
Читать дальше