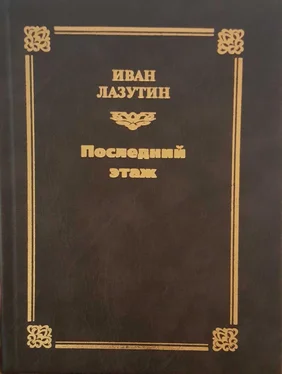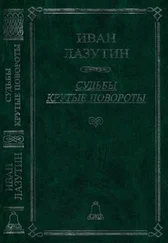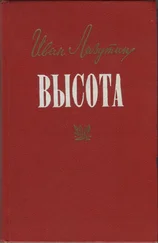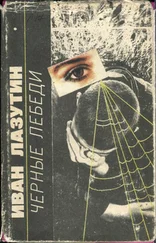За нами в гримуборную вошел К.С.Станиславский. В первую минуту Есенин несколько растерялся, глядя на этого высокого седого человека с благородным обликом аристократа. Качалов их познакомил.
— Ах, вот вы какой!.. — всплеснул руками Есенин и, разделив букет роз, одновременно протянул их сразу обоим: Станиславскому и Качалову. — Сам ломал. Видите — весь в крови. — Поэт посмотрел на часы, и его лицо сразу стало печальным. — Утром улетаю в Тегеран. — Он показал на корзину и вытащил из нее бутылку вина. — А это прихватил на дорогу. — Есенин распечатал бутылку выдержанного вина, а стаканов, как на грех, не оказалось. Он повернулся ко мне.
— Земляк, ты здесь свой человек. Нужно четыре стакана.
Я понял утвердительный кивок Станиславского и пулей помчался в буфет, по пути соображая: для кого же четвертый стакан? Неужели за компанию Есенин поднесет и мне? Но он так и поступил. Когда я вбежал в гримуборную Качалова, Есенин, стоя с распечатанной бутылкой посреди комнаты и время от времени делая широкие отмахи рукой, читал стихи:
…Ну, а этой за движенье стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю…
Есенин наполнил стаканы и обратился сразу ко всем:
— Друзья!.. Я так счастлив, что встретил вас здесь!.. Ведь я тут почти месяц. Написал уйму стихов! В Баку и без того жаркое лето, а в моей душе огненная болдинская осень. Выпьем!..
Выпили все четверо. Есенин достал из корзины две огромных грозди винограда, бережно положил их на стол и, усмехнувшись, сказал:
— Лететь в Персию со своим вином и виноградом — это все равно, что в Тулу ехать со своим самоваром.
Тут раздался звонок, извещавший начало последнего акта, и Качалов, как-то сразу преобразившись в лице, встал, приосанился, немного постоял и пошел на выход. В дверях он остановился и попросил Есенина:
— Сережа, пока я доиграю последний акт — почитай, пожалуйста, Константину Сергеевичу стихи. Он тебя давно любит.
Поймав на себе отчужденный взгляд Станиславского, я хотел уйти, считая, что я здесь лишний, но Есенин остановил меня:
— Не уходи, земляк. Может быть, больше уже никогда меня не услышишь. А будешь в своих Клепиках — расскажи нашим, как мы тут под южным небом, под звон цикад благословенно вспоминали рязанские дали.
И Есенин начал читать. Боже мой!.. Как он читал!.. Такой исповеди души я уже больше никогда не слышал. Вначале Станиславский важно сидел в кресле и, щурясь, не спускал глаз с Есенина. Потом он встал и, отойдя к стене, замер, по-прежнему не отрывая глаз от поэта, который, словно забыв, что перед ним люди, каждое слово произносил с таким душевным напряжением, что казалось, вырываясь из горла, слова эти уносили за собой частицу сердца. Когда он читал стихи, посвященные своему деду, лицо его было таким умиротворенным, таким евангельски-кротким, что, казалось, он находится не в чужом Баку, а в родном доме, и перед ним, ковыряясь шилом в хомуте, сидит его любимый старый дед.
…Послушай, дедушка, а если я умру —
Ты сядешь или нет в вагон,
Чтобы присутствовать на свадьбе похорон
И спеть в последний раз мне «Алилуя..»?
После этих слов на лице Есенина отразилась печальная улыбка, он даже вытянул вперед голову, словно в чем-то уговаривая деда.
…Тогда садись, старик, садись без слез,
Доверься ты стальной кобыле…
О, что за сила этот паровоз,
Его, наверное, в Германии купили…
Потом он читал «Шагане», «Я спросил сегодня у менялы», «В Хорасане есть такие двери»… Стихи, как я видел по лицу поэта, на Станиславского произвели огромное впечатление. Есенин хотел распечатать вторую бутылку, но раздумал и поставил ее на стол. А когда взгляд его упал на мальчонку, он вдруг о чем-то задумался, подошел к нему и погладил его про голове.
— Ступай, Ахмет, домой и скажи матери, что в Тегеран я утром не полечу. Скажи ей, что я встретил московских друзей. — Вспомнив о корзине, которая, очевидно, была не его, он освободил ее и подал мальчугану. Тот, сверкнув белками больших черных глаз, шмыгнул носом и, вытерев его рукавом рубахи, вышел из комнаты.
— Выведите его из театра, а то он здесь заблудится, — сказал мне Станиславский, и я выскочил из гримуборной. Действительно, мальчуган пошел по коридору совсем в противоположную сторону, к сцене. Тут же я заметил: у двери гримуборной Качалова стояло несколько освободившихся от спектакля актеров и рабочих сцены. Я понял, что они слушали стихи Есенина, не смея попросить разрешения войти. Станиславского в театре не только высоко чтили, но и побаивались.
Читать дальше