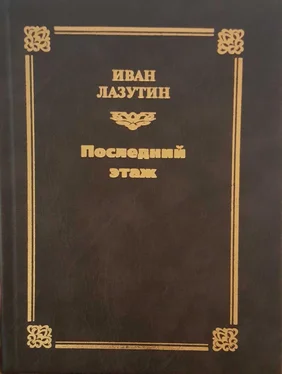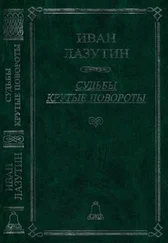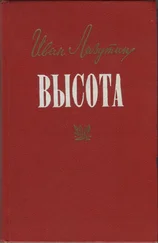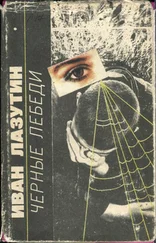Потом он прикурил от моей папиросы и, тряхнув густой волнистой шевелюрой, прочитал:
У нас в Рязани
Грыбы с глазами,
Их ядять
Они глядять…
Я тоже понял, что передо мной стоит коренной рязанец. Он угостил меня дорогими папиросами. Я показал ему служебный вход в театр и сказал, что Василий Иванович в спектакле занят до самого конца, пока не упадет занавес. Он поблагодарил меня, сказал что-то по-азербайджански мальчугану и пошел к служебному входу. Уж что там произошло у них со сторожем театра, который в этот вечер дежурил на вахте у служебного входа, я не видел. Но крик стоял сильный.
Мой земляк пытался пройти в театр, а старик-азербайджанец, как видно совсем неграмотный, не пускал его. Пришлось подойти. Все-таки как-никак земляк, да еще угостил дорогими папиросами.
Вот тут-то у меня захватило дух. При ярком свете электрической лампочки волосы моего земляка казались светло-золотистыми, ржаными, а глаза, как у ангелов на иконах, по-небесному синие. Он бил себя кулаком в грудь и надсадным голосом доказывал старому сторожу, что ему обязательно нужно повидать артиста по фамилии Качалов.
— Ты пойми, кацо, я его друг! Лучший друг!.. Моя фамилия — Есенин!.. Меня вся Россия знает!.. Я поэт Есенин!.. Ты слышал когда-нибудь это имя?!
Старик-азербайджанец, загородив грудью дорогу, стоял как страж у врат Тамерлана. Глупо хлопая глазами, он твердил одно и то же:
— Нильзя!.. Слюжебная входа… Один актер и актрис здесь ходит… Директор ходит, начальник ходит… Чужой чиловик здись не ходит.
— Да пойми же ты, голова твоя садовая, я же друг Качалова!.. Я — Есенин!.. — выходил из себя поэт.
И тут я заметил, что пальцы правой руки Есенина кровоточили, очевидно, он изранил их о шипы роз. Были видны пятна крови на обшлаге светлой шелковой рубашки.
Если бы на вахте стоял человек помоложе — я не сдержался бы, я бы отшвырнул его в сторону, а там разбирайся: кто прав, кто виноват. Но в эту минуту насилие было не к месту. Перед нами стеной стоял седой старик, бронзовое от загара и ветра лицо которого было исклевано оспой.
И тут я решил вмешаться. Я размахивал руками и доказывал плохо понимающему по-русски азербайджанцу, что это известный московский поэт Есенин, что он знаменит, что он друг не только Качалова, но и всего театра… Но сторож с каждой минутой словно сатанел и становился все более неприступным.
— Ты иди служебный ход, ты плутник, ему ходить нильзя, чужой чиловек… Приказ директор есть… Чужой ходить здись нильзя… Я предложил Есенину написать Качалову записку.
Есенин вытер о носовой платок кровоточащие пальцы, достал из заднего кармана брюк блокнот, вырвал оттуда листок и написал карандашом: «Вас. Иванович!.. Меня не пускают к Вам. Есенин».
С этой запиской я кинулся за кулисы. На мое счастье, только что окончился второй акт и в зале еще звучали аплодисменты. В гримуборную Качалова я влетел с запиской, как с царской грамотой и, глотая слова, пытался объяснить великому артисту обстановку. Качалов еще не остыл от внутреннего напряжения, в котором он пребывал в течение всего акта. В своих царских одеждах и в высокой шапке Мономаха со скипетром в руках он сидел в кресле. По его щекам градом катился пот, и он почему-то не стирал его. Услышав имя Есенина, Василий Иванович только повел бровями. Я подал ему записку. Он прочитал ее и грозно посмотрел на меня.
— Где он?.. Где Есенин?!. Кто может не пускать ко мне Есенина? Ведите меня к нему!..
Оглядываясь назад, я пошел к служебному входу. Во всем своем царственном обличии, опираясь на скипетр, Качалов шел за мной следом.
У меня даже навернулись слезы, когда они обнялись и поцеловались. Молча, все с тем же царственным выражением на лице Качалов взял Есенина под руку и повел к себе. Я думал, что Есенин забыл про меня, но он, даже в эту волнующую минуту встречи со знаменитым человеком, вспомнил простого плотника из столярного цеха. Перед лестницей на второй этаж Есенин вдруг круто повернулся и крикнул:
— Земляк!.. Что же ты отстаешь?!. — Хитровато подмигнув, он взглядом показал на корзину в руках мальчугана-азербайджанца, в которой посверкивало несколько бутылок вина. Повернулся в мою сторону и Качалов. Поняв намерение Есенина, Василий Иванович молча махнул мне рукой, давая знать, что я им не помешаю.
В эту минуту от счастья я был на седьмом небе. Следом за Качаловым и Есениным в гримуборную вошел и я. Мальчонка-азербайджанец, который за все время не проронил ни слова, поспевал за своим хозяином, как собачонка.
Читать дальше