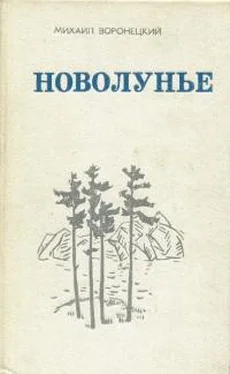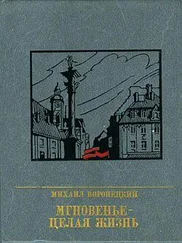— Ты где это ружье нашел? — спросил дядя Егор,
— Это Гошкино ружье, — сказала Серафима.
— Как он там, Георгий-то? — спросил отец.
— Да ничего.
— Смотри-ка ты, — тормошил Ларьку дядя Егор. — А ты, оказывается, не прост. Ох не прост! Курица не съест, так далеко пойдешь. Голова-то кумекает. А то бы ведь ушел Сенька, если бы не ты. Нам-то в башку не ударило, что надо бы обойти одному... Поперли, как на медведя.
— То-то и есть — как на медведя, — ворчала Серафима, — ладно уж, Гаврила — ему не до того было, а ты-то, старый пень, чем думал?
Отец тронул Серафиму за плечо, указал глазами на Сеньку, шевельнувшегося в густой траве:
— Посмотри, кажись, живой.
Серафима нагнулась над Сенькой.
— Живой, в плече кровит...
— Перевяжи. А мы заявим.
— Не надо! — крикнул я.
— Почему?
— Милиция придет и ружье заберет.
— А зачем тебе ружье? У нас своих два.
— Не мне, а Ларьке. Это его теперь ружье. Он за него жизнью рисковал.
— Да не за ружье, а за тебя, — сказал Ларька, — боялся, что он еще выстрелит, как убегать будет. Тебе-то ведь не увернуться было.
Дядя Егор подошел к раненому, поглядел на него и, нагнувшись, поднял Сенькину двустволку, проговорил:
— Интересно, где хозяин этой двустволки...
— Лежит где-нибудь на дне Енисея, — сказал отец. — Скорей всего, нашего брата чабана решил. У кого же еще ружья-то.
Серафима плакала, не закрывая лицо руками.
День опять наливался жарой. В траве верещали кузнечики.
В кустах пересвистывались распуганные выстрелами птицы. И как всегда, глухо шумел на Самоловном перекате Енисей.
А по ту сторону реки по желто-зеленому склону Февральской горы медленным облаком в знойный полдень скользила отара, подвигаясь к водопою,
Отец решился наконец перестраивать избу, и не просто перестраивать, а ставить настоящий дом. Для того и приплавил он из тайги салик: бревна ровные, одно к одному, начисто ошкуренные, смолистые.
— Из такого лесу дом поставь, — говорил я Нюрке, ему износу век не будет.
— Из такого лесу, из такого лесу, — передразнивала Нюрка, — то из него слова веревкой не вытянешь, то вдруг начинает взрослых повторять, как попугай...
Я от обиды хотел было вцепиться Нюрке в ржавые косицы, да вспомнил: эти слова говорил отец, а я подслушал и забыл об этом.
С Нюркой у нас дружбы не получилось. И я иногда думал о том, что лучше бы она жила в Жинаеве. От тех, кто в других деревнях, ни жарко ни холодно, что они есть, что их нет. А Нюрка вечно торчала перед глазами и все норовила побольней зацепить.
К тому же и драться с Нюркой — штука не совсем приятная. Во-первых, она была старше меня на два года и потому сильней, а во-вторых, она била без жалости и куда попало. И заплакать нельзя — потому что с девчонкой дерешься: задразнят.
Утешало то, что Нюрка с матерью должны были скоро уехать в Шоболовку, куда председатель уже кое-кого переселил.
Как-то после обеда отец вышел на берег с топором под мышкой. Он только слез с крыши бани, где всегда отдыхал после обеда. Такое завел он себе правило сразу, как появился из тайги: хоть пять — десять минут, да уснуть после обеда.
— Надо когда-то и по-человечески пожить, — говорил
он. — Всех дел все равно не переделаешь, а жизнь, она, паря, один раз дается.
Но не проходило и получаса, как отец уже высовывался из-под низкой односкатной крыши.
— Что, уже выспался?
— Выспался. Лежал, лежал с закрытыми глазами, как дурак, а уснуть так и не смог.
— А зачем ложился, раз спать не хочешь...
— Я вам каторжный, что ли?! По-человечески должен пожить когда-нибудь?!
— Вот пойдешь чабанить, выгонишь отару на увал, и спи себе цельный день...
— Ну, я не трутень какой, чтобы цельный день спать. Я, паря, человек рабочий.
— А раз рабочий, так зачем после обеда валяешься?
— Сравнил!.. Одно дело — днями лежни належивать, другое — для здоровья часок уснуть. Вишь, я худой, как табарга. В тайге-то оно в самый раз. Там лишнее тело мешает. А здесь жизнь другая. Тут человек чем толще, тем ему и почету больше. Вон у председателя брюхо какое...
Отец пускал клубы дыма, и не видно, как он щурил глаза в усмешке. Я вспомнил добродушное круглое лицо председателя, как-то подвозившего меня, и счел нужным вступиться за него:
— Председатель больной. Оттого и живот у него. Он сам говорил, когда я с ним ехал...
— Больной! Поменьше бы на пироги с маслом нажимал, побольше бы пешком по полям гонял — вот и был бы здоровый. Все дело в характере, паря, — я так понимаю. Есть у тебя характер — ты при любой болезни здоровый будешь. Нет характера — так и при любом здоровье зачахнешь.
Читать дальше