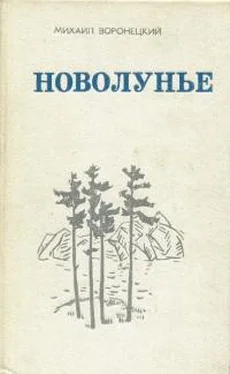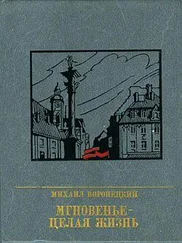— От кого?
— От Ларьки Новоселова. Помнишь такого?
— А как же. Друг. Что он делает?
— Баклуши бьет.
— А пусть он к нам приедет на месяцок...
— Это он с радостью. Как приеду, пошлю сюда.
— Ну, а ты, когда лечиться бросишь, тогда ведь уедешь?
Валька повернула лицо, спросила:
— От чего лечиться? Я не болею.
— А чтоб дети были...
Валька захохотала:
— Это, наверно, старухи болтали. Для отвода глаз... Я-то знаю, зачем приехала старая: чтобы обломилось что-нибудь. Своего-то хозяйства у нас нет. А у свекровки характер такой: клянчить по родне. — Валька снова хохотнула чему-то своему, вдруг пришедшему в голову. — А до меня-то и не дошло сразу, чего она пристала ко мне — поедем да поедем...
В сенях заскрипела дверь.
— Молодежь, — услышал я совсем протрезвевший голос отца. — Вы спать сегодня думаете?
— А что?
— Самолов готовить надо. Часа через полтора за Камень поплывем ставить. Гостей стерлядью угостить надо.
Отец потоптался еще немного на крыльце и пошел за ворота. Слышно было, как он гремел цепью под берегом — видно, перешагивал через лодку да зацепился. Минут через пять поднялся на берег и вошел в избу.
— А что, ступай-ка спать, — сказала Валька, переворачиваясь на бок и натягивая на ухо одеяло. — Меня в сон потянуло.
Я, поеживаясь, слез с крыши, пошел под навес. Но ложиться не стал. Начинало светать. Протока густо поросла туманом. Из-под увала потек холодок. Подумал, что самое время за самолов приниматься, крючки точить. Взял рубаху и пошел под берег — купаться.
Я зябко втягивал голову в плечи — купание освежило только на несколько минут. Снова навалился сон. Но отец забыл, что я не спал в эту ночь. А может быть, и совсем не подумал об этом. Он задумчиво смотрел на увал. Отсюда с протоки, дымящейся туманом, увал казался высоким, а гора Февральская — поодаль — и совсем уходила в небо.
Плыли молча. Оба сидели в лодке так, как будто и вчера плыли этим же путем, и позавчера, и каждый день — с самой весны. Постоянные, одна за другой, длительные разлуки приучили нас воспринимать все молчаливо и бесстрастно, как, например, уход на ночную рыбалку или сенокос. Настоянный на рассветной тишине холодок заставлял согреваться собственными размышлениями.
«Эх, перешел бы отец в колхоз, назначили бы его чабанить — и вся семья не чувствовала бы себя в деревне на отшибе, — думал я, — на все каникулы я уходил бы в подпаски, бродил бы с отарой по холмам, а когда отец отдыхал, я бы ездил по степи: все чабаны имеют верховых лошадей. Так и я ездил, когда ходил у покойного дяди Павла в подпасках».
Все-таки мне рыбалка всегда казалась пустяковым делом, занятием для несамостоятельных людей — людей без должности. В деревне кто таких уважает? Каждый норовит при должности быть: либо конюхом, либо трактористом. А когда ферму перевели в Шоболовку, многие уехали туда. Тетка Симка да тетка Степанида остались. Степанида со старухами по нарядам ходит. Тетка Симка чабанит.
Отец, конечно, даже не подозревал о моих размышлениях: наверно, думал о Степаниде и, может быть, о себе. О том, что вот какой он разумный мужик, что не женился на молодухе, а взял бабу под свои годы. Такая незавидная уж невеста была, что он и думать-то не думал о ней по-хорошему. Абы хозяйство вела — середка на половинку. А она, гляди-ка, как раздобрела, кажется, надави пальцем — кровь с молоком брызнет. Теперь ее и оставлять-то одну боязно. Но главное, что парнишку не обижает. Вон, какой длинный. Без бабьей ласки такие не растут.
— Кажется, тут?
— Ага, — встрепенулся я, — тут, тут. Где ж ей еще ходить? Самые стерляжьи места.
Самолов ставили под крутым берегом, которым обрывается в Енисей увал. Река здесь, огибая Ойдовский остров, шумит день и ночь ровно и протяжно.
Один я сюда никогда не заплывал. Боялся. Но при отце, конечно, храбрился. Сидя на корме, делал рискованные повороты, за что мне давно бы уже досталось, если бы это было несколько дней спустя. Но сегодня отец только сердито оборачивался, сдвигал на переносицу брови и, сдерживаясь, хватался за лопашни и помогал ставить лодку в прежнем направлении.
Он хотя и слыл теперь отчаянным плотогоном, однако же баловства на реке не любил и без нужды никогда не рисковал своей жизнью. «По дури и в луже утонуть — дважды два», — говаривал он, когда видел, как пьяные мужики дурачились на реке. И сам пьяный никогда в лодку не садился.
Подумав об этом, я устыдился своей легкомысленности.
Поставили самолов удачно, как раз поперек течения. Якорь кинули метрах в ста от берега. Держась за поплавок, сделанный из сухой тополевой жерди, отец отдыхал, готовился к осмотру снасти.
Читать дальше