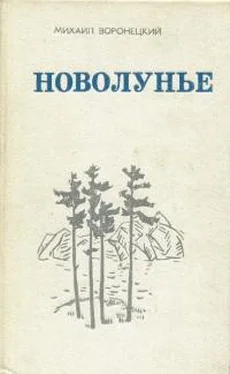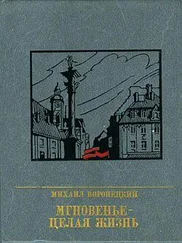— Сам иду, не видишь, что ли? — говорю. Но говорю
так, чтобы дед не слышал.
Спустился вниз по тропинке. Мы идем через выгон, через огород... В ограде я сбросил веники и сел на чурбан, а дед тем временем улегся на верстаке под навесом, накрылся полушубком до подбородка. Из-под полы торчат растоптанные, аккуратно подшитые белые валенки — чесанки.
— Заболел, что ли?
— Заболел. Болезнь моя известная. И что за напасть? С четырнадцатого года трясет. Как время ей приходит, так начинает трясти. Фершал говорит — малярия, а я-то знаю... не малярия, а лихорадка. Сколь хины перепил — и все без толку. Плевал я на ихние лекарства, да делать нечего — пью. А ты што вчера не был?
— На острове ночевал. Перемет ставил.
Вот оно што. А я думаю, чего бы ему не прийти. А тут трясти начало. Работу я бросил, вышел в огород, гляжу — Минька. Ну и дай, думаю, позову. Емельян у меня был. Бригадир. Письмо тебе привез с Шоболовки. В избе на столе лежит. Возьми, а то кто придет — живо раскурит.
— Какое еще там письмо?
— Обыкновенное. Отец пишет, знать-то...
Я побежал в избу, распечатал конверт и прочитал:
«Здравствуй, сынок. Пишу тебе издалека, из-под Арадана. Живу в тайге и часто вспоминаю нашу деревню и тебя. А пишу по той причине, что есть у меня к тебе, Минька, дело мужское. Пользовался я слухами, будто мать твоя уезжать в город норовит. И слухи эти подтвердил мне Егор Ганцев. Он неподалеку плот вязал. Мы ведь ним приятели. Ну, так вот, слушай, что я тебе скажу. Уезжать вам никак нельзя. Я это по себе знаю. Я мужик, да и то тоска заела. А вам с матерью и года не прожить в городе. Нельзя вам от дому отрываться. Да ты еще мал по чужим углам таскаться. Глядишь, и учебу бросишь. Одним словом, должен ты подействовать на мать, чтобы она не ерепенилась и жила на месте, пока ты не вырастешь. Тогда — твоя воля. Минька, все возможно, что скоро мы с тобой увидимся. Передай поклон деду, дяде, теткам, а также матери твоей. Я бы ей сам написал, да она еще, чего доброго, читать не станет...»
Прочитав письмо, я усмехнулся: «Ну, дядя Егор, — что может наболтать человеку. — Но тут же спохватился: — А что, если правда... А как же новый дом?
Надо все разузнать. Придет с работы мать — все у ней выпытаю».
Дед, увидев, что я направляюсь к калитке, спросил из-под полушубка:
— Пошел, что ли?
— Ага. Некогда мне.
— А веники-то што не берешь? Забыл?
— Пускай вам останутся, а я себе еще заготовлю.
— Что отец-то пишет?
— Поклон тебе передает.
— A-а... Ну, спасибо, спасибо... Ничего был мужик, ничего... Не забыл, стало быть, вспомнил.
Остаток дня я просидел в тополиной роще, на берегу. Даже корчаги, не посмотрел вечером. А как только загнал в сарай корову, привел теленка с выгона и пригнал с протоки гусей и уток, сразу улегся в своей кровати. Незаметно уснул. А когда проснулся, была, уже ночь. В окно светила луна. Я прислушался: за перегородкой вздыхала мать.
— Мам, а мам!
— Что тебе? — едва слышно спросила мать.
— Дом когда достраивать будем?
— Дом он продавать хочет, — сказала мать. — Филя Гапончик берет. Задаток дал. Вот баян да двустволку купили.
— А как же мы?
— В Минусинск забрать хочет. Хватит, говорит, мантулить здесь. В городе, говорит, работа легче. Давно зовет. Да я все не могу решиться. Только ты спи, хватит.
Мать замолчала. Потом я услышал, как она ровно стала дышать — уснула. А я все думал и думал… думал о новом доме, которого у меня не будет, о Минусинске, куда я прошлой осенью плавал — семечки и лук на базаре продавать. Да в этом Минусинске и реки-то настоящей нет, кроме заглохшей протоки, куда зимой весь город навоз сваливает. Нет, туда никак нельзя, надо что-то быстро придумать. Но что? Я не спал до самых петухов. Но так ничего и не придумал.
А за три дня перед тем со мной случилось вот что...
Утром как-то я бросил в лодку острогу и на шесте пошел вверх по Енисею. Три дня назад на Чаешном острове я нашел широкую и не очень глубокую курью. Берег, правда, песчаный, но на дне я увидел затонувшие бревна и коряги. Под ними должны быть налимы.
Я в тот день был свободен. В огороде все выполол. Корову и гусей мать сама отправила на выгон перед уходом на работу.
«Куда еще ехать, — думал я, — когда кругом такая благодать. Отчим человек таежный. Ему наши степи непривычны, вот он и беспокоится. А нам с матерью уезжать куда же? Ему не нравится — пусть катится на все четыре стороны, а мы и без него жили куда с добром!..»
Втолкнув лодку в курью, я взял длинный шест с насаженной острогой — трезубцем, неслышно упираясь железным наконечником о мягкое дно, тихо поплыл посередине. Вода еще была мутновата: совсем прозрачной она станет только к осени, когда вся вода подтаежных рек уйдет в океан, а Енисей станет вдвое уже и мельче. Тогда на налимов начнется облава. Их будут колоть острогами, вилками... Но мне этот дикий рыбачий азарт не по душе. Я ловлю налимов все лето, понемногу, лишь бы к ужину на уху было.
Читать дальше