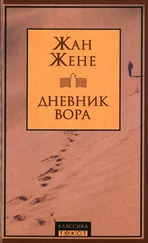Я даже подумал, может, после первой медали торс начинает раздуваться и увеличиваться в объеме, становясь эдаким дерзким выступом, гордой витриной, в ущерб ногам и голове, причем, ноги становятся все более тонкими, а голова все более тяжелой, но пустой. Происходит накачка мускулов груди.
Эта церемония, походившая на оборотную сторону медали, не имеющей лицевой стороны, так сказать, реверс без аверса, причем, медали за заслуги, о которых никто никогда не узнает, приостановилась, словно переводя дыхание. Когда личный обыск завершился, все дипломаты, спустившиеся в зарезервированные для мероприятия гостиные, оказались в центре земли, чтобы выбраться оттуда уже на другом конце света, и даже на меня снизошел покой: два полицейских, которые массировали их позвоночники, теперь, снимая напряжение, массировали друг друга с таким сладострастием, с каким дамы начала века расшнуровывали свои корсеты. На холл, на полицейских опустился туман, как пар в турецкой бане. Они потягивались, открывали рот, чтобы зевнуть, но из подвала уже поднимались нет, не первые, а последние дипломаты, их супруги, их военные и культурные атташе, вернее, культурные и военные, как уточнил бы словарь Гревисс, сообразуясь с военным кодексом и правилами красноречия. Поясницы ломило. Руки устали, запястья болели, но лихорадочный зуд никуда не делся, они вновь были готовы проверять туфли и приподнимать брюки. В глазах французского посла я увидел уныние и безнадежность, такие же, какие испытывал и я в тюрьме, когда меня обыскивали охранники. Его надменная супруга, указав на мужа и атташе посольства, сухо сказала по-английски:
– Довольно игр на сегодняшнюю ночь. Меня уже достаточно обыскивали.
Копы с облегчением выпрямились.
Глядя на них всех, дипломатов и полицейских, я понял, что нет ничего красивее восточных полицейских, приказывающих жестами, порой довольно игривыми, сильным мира сего наклониться, оттопырить ягодицы, развести в стороны руки. Уроком им служили невозмутимость Талейрана и его еле заметная улыбка.
Супружеская чета дипломатов поднялась из ярко освещенных золоченых подвалов; они гордо прошествовали мимо полицейских с ноющими от напряжения, но прямыми позвоночниками, и вошли в дверцу автомобиля, тоже почти не согнувшись. В этот раз они узнавали изгибы знакомых спин: куртка шофера была английской, мундиры бельгийскими, немецкими, французскими. Дипломаты с супругами рассаживались по автомобилям степенно и серьезно, но оставляли за собой шлейф аромата, заставляющий сомневаться в серьезности масок.
Это был такой обряд, праздник…
Когда какой-нибудь ветеран в тысячный раз рассказывает мне про Мёз-Аргонское наступление, а Виктор Гюго в романе «Девяносто третий год» неоднократно упоминает бретонские леса, это меня раздражает, но не мешает самому снова и снова писать про то, что дни и ночи, проведенные в Аджлунских лесах – от Ас-Салта до Ирбида по берегам реки Иордан – были праздником, если принять следующее определение этого слова: огонь, который горячит наши щеки оттого, что мы вместе, несмотря на законы, предписывающие нам одиночество; или вот еще такое: сбежать ото всех и отыскать место, где мы сделаемся сообщниками против этих всех. И самый большой восторг на этом празднике мы почувствуем, когда тысяча или сто или пятьдесят или двадцать или два пламени будут гореть столько времени, сколько понадобится одной зажженной спичке, а единственной песней станет нарочито-театральное шипение почерневшей гаснущей спички, умирающей в корчах. Этот последний образ напоминает о том, что праздник порой походит на надгробное бдение, в самом деле, всякий праздник – это одновременно и ликование, и отчаяние. Представим себе смерть какого-нибудь еврея во Франции при немецкой оккупации: его хоронят на деревенском кладбище и из семи разных мест приходят семь самых отвратительных солистов с черными коробочками в руках. Этот тайный септет у могилы играет арию Оффенбаха, плохо, зато очень торжественно, а затем, не сказав ни слова, они расходятся каждый в свою сторону. Для Бога пророка Исайи, который сам есть дуновение на стебельке, это ночь была праздником. Глядя на волосы и бледное лицо матери, я понимал, что одного лишь легкого, едва уловимого беспокойства Мухабарата, о котором можно было только догадываться, достаточно для свершения таинства, именно оно позволило этой странной встрече стать праздником.
Хотя слова ночь, леса, септет, ликование, одиночество, отчаяние – всего лишь слова, тем не менее, именно их я использую, чтобы описать то душевное смятение ранним утром в Булонском лесу в Париже, когда расходятся трансвеститы, свершив таинство, и пересчитывают свои мятые от росы банкноты. Но любое более или менее благонамеренное действие может быть скорбным – не мрачно-похоронным, но скорбным – так на заводе устанавливают громкоговоритель, чтобы легче стало работать на конвейере под приятную мелодию. Хозяева завода полагают, будто музыка способствует яйценоскости. Любое отправление таинства опасно, а когда оно запретно, но все равно свершается – это праздник.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Жан Жене Влюбленный пленник [litres] обложка книги](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-cover.webp)