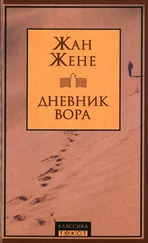«Эти вновь прибывшие, все эти мужчины и женщины разных национальностей и цветов кожи, уязвленные оттого, что им пришлось покинуть свои дождливые, заснеженные Карпаты, поначалу нас удивляли и казались капризными. Евреи из Европы мечтали о Сионе, а здесь им никто не сказал, что Аль-Кудс там назывался Сионом! Оливковые рощи на холмах, Храм Соломона, Песнь Песней, поля пшеницы, пятикилограммовые грозди винограда круглый год, – это были мечтания скрипачей и планы банкиров. Палестинцы и не догадывались, что их прессы для маслин, их пахотные поля были предметом мечтаний, а вокруг них и их страны расставляют силки. Юный Али, о котором вы мне говорили, сказал вам однажды, что сионисты потихоньку скупили табачные плантации вдоль нынешней границы Израиля до самой Литани, так вот, он в принципе не ошибался. Наши кадастры в Варшаве велись лучше, чем в Иерусалиме. Еврейские скрипачи сделались меткими стрелками, их скрипки были цыганскими, а автоматы стали израильскими. Мои близкие по-прежнему не подозревали, что за ними, оказывается, следят вот уже две тысячи лет – а то что означала бы угроза «Если я забуду тебя, Иерусалим…»? – и что уже две тысячи лет их жизнь, которой они были обязаны лишь вскормившей их земле, так они считали, эта жизнь была им дана взаймы славянскими вербовщиками, только и дождавшимися подходящего момента, чтобы выйти на охоту с криком, грохотом, охотничьими рогами. Палестинцы никогда не думали о европейских евреях, истерзанных погромами, и тут на их земле появились первые несчастные под видом крестьян, мнивших себя социалистами, больше подкованных в теологии, чем в сельском хозяйстве; но ведь Палестинцам не являлась во сне эта Земля Обетованная. Только потом они понемногу начали осознавать, что были всего лишь персонажами из сновидений, и вот будильник внезапно и резко вырвал их из сна, лишив одновременно и существования, и бытия.
«Это попятное движение, подобное погружению в глубокие пласты самых давних поколений польских, украинских, мадьярских евреев, мешало палестинцам быть реальными до конца, они сделались, скорее, народом из сновидений, то есть, народом-тенью, а не народом из плоти и крови и, возможно, каждый израильтянин, сражаясь с ними, верил, что сражается с несуществующей армией. А фидаины были такими настоящими, и я подозревал, что их восстание стало необходимым, чтобы доказать самим себе и евреям-сионистам: они, тоже являясь палестинцами, – существа, обладающие и плотью, и духом, и не рассеются, подобно призракам, при пробуждении спящих ашкеназов. Мне показалось, что дистанция, разделяющая этих строптивых людей, бесконечна, и увеличивалась по мере того, как мы, палестинцы, все больше хотели стать свободными, независимыми от сновидений или пробуждений евреев, и эта дистанция между людьми из снов и реальными фидаинами свидетельствовала о появлении в этом мире совершенно нового явления, способного исказить Ближний Восток, навредить мусульманским народам, их правительствам, особенно прозападным, для которых арабский мир должен остаться народом-тенью. Нашей свободы стало больше, когда увеличилось расстояние между тенями, какими мы были, и сволочами, какими становились. Мы все увеличивали и увеличивали это расстояние, в нем и была заключена наша свобода, все богатство нашей свободы. Оно казалось вместилищем наших богатств. Выходит, истинная опасность, о которой мы не знали, таилась в сновидении, принесенном северным ветром.
– В прошлом ваша семья оказывала услуги константинопольским калифам?
– Конечно.
Вошел его шурин. Мусульманин Мустафа сначала был женат на немке, затем на черкешенке. У его родственника, высокопоставленного чиновника, хорошо говорившего по-французски, была очень белая кожа и светлые волосы. Хотя кожа самого Мустафы тоже была не слишком темной, я увидел разницу; меня уже не сильно удивляло, почему европейцы так защищают советских диссидентов и гораздо менее рьяно – черных американцев, если только последние не являлись выходцами с социальной периферии: танцорами, певцами, спортсменами, джазистами. Присутствие шурина, возможно, смягчило жесткие замечания Мустафы относительно европейцев.
– Мы, конечно, прежде всего – мусульмане, они тоже; потом, вы ведь знаете, я из Сирии, а Империя признает и Сирию, и Палестину. Это как ваш Прованс и Нарбонская Галлия стали римскими провинциями. Своеобразие Палестины уважали. А что османы? Империя, этот тяжелый пятидесятитонный груз – вы думаете, удобно перевозить его по горной дороге? – оставила грекам их своеобразие, как и римлянам, сербам, словенцам, сирийцам, ливанцам, палестинцам, албанцам. Тяжким преступлением Османской империи было то, что они не навязали арабам свою кухню. А главная их вина – это корпус христианских наемников…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Жан Жене Влюбленный пленник [litres] обложка книги](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-cover.webp)