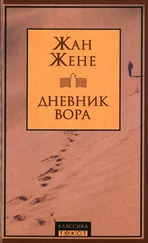Я уже признавал, что палестинскую революцию можно изложить в такой формулировке-апокрифе: « быть опасным тысячную долю секунды ».
Въезжая впервые в Амман со стороны Даръа, я увидел самого себя, как будто в розовом утреннем тумане вхожу в Багдад 800 года при Гарун аль-Рашиде, а еще мне казалось, и невозможно было отделаться от этого ощущения, что я прогуливаюсь в Сент-Уане или по этим кварталам в двадцатые годы нашего века. Поскольку палестинцы находились в Ашрафии, квартале Аммана, расположенном на возвышенности, они все время шутили про эту самую высокую точку города, до которой так трудно добраться, как будто, карабкаясь по снегу на этот Эверест, они ломали ногти и отмораживали кончики пальцев. А стены домов вокруг Ашрафии были из песчаника, они где-то обрушились, где-то обгорели, но кровью заляпаны не были, а в целом выглядели довольно убого, как в пригороде какой-нибудь европейской столицы. Неизменная большая мечеть в универсальном арабо-колониальном стиле была сооружена из трехсот сорока видов мрамора.
Прожив несколько дней в одном из лагерей, я увидел, что собой представляет обыденная жизнь его обитателей. Наступали праздники? Песни, танцы, стрельба настоящими пулями, чтобы поприветствовать водопроводчиков, которые трудились несколько недель, проводя воду во все постройки лагеря Бакаа. Когда зимой 1970 семье нужна была вода, женщины, девушки, девочки выстраивались в очередь к единственному крану в лагере, где каждая наполняла по два пластмассовых ведра, зеленых, красных, желтых с нарисованным по трафарету силуэтом Микки Мауса – каждый раз разным.
Во всех мусульманских странах, во множестве бедных деревушек вода течет из единственного крана, а девушки и замужние женщины с удовольствием ходят к медному резервуару, здесь они переругиваются, перебрасываются шутками, рассказывают друг другу всякие ужасы. Каждая ставит перед собой пустое или наполненное ведро, оно словно караулит место хозяйки, которая заканчивает свой многословный рассказ о муже, слабеющем к концу ночи, и рассказчица, наконец, смолкнув и уперев руки в бедра, ждет смеха или негодующих воплей других женщин. Палестинки всегда были молчаливыми, слишком усталыми для праздной болтовни. Этот жест: взяться за ручку ведра и поднять его – был таким точным, таким выверенным, потому что повторялся по три-четыре раза в день все триста шестьдесят пять дней в году. И положение руки было таким, как подобает, потому что рука эта знала вес каждой капли воды. Раз в месяц было дозволено единственное развлечение: когда приезжал из Аммана торговец разной пластмассовой утварью, какой-нибудь иорданец на запряженной двуколке, женщины, а иногда и мужчины – и какое это было счастье – долго и придирчиво выбирали цвет: ярко-зеленый, бутылочный, бурый, алый, гранатово-красный, иссиня-черный, два, три, четыре, пять, десять оттенков синего, и всегда, на каждом ведре рисунок Микки Мауса по трафарету. И шум воды рядом с выстроившимися в линию ведрами. И это всё. Лагерь жил и этим тоже.
Когда я написал выше: «каждая ставит перед собой ведро…», я вовсе не имел в виду, что все женщины ходили к крану, как когда-то к водному источнику, чтобы посмеяться над мужем, я написал это, чтобы понятнее стала серьезность палестинок, потому что мужчина вернется. Может быть, вернется.
А еще, перечитывая написанное, я вижу, что забыл упомянуть про платок на волосах, он прикрывает их полностью, разве что где-то остаются видны несколько корней.
Второе добавление: у женщин в лагерях нет ни времени, ни желания вышивать эти знаменитые палестинские платья или диванные подушечки, они стали такой редкостью, что знатные дамы приходят в отчаяние. Если мужчина погибает, женщина берет оружие, а не иглу. Прощайте, подушечки, теперь они украшены машинной вышивкой.
Дорога, сегодня покрытая асфальтом, ведущая от Салта к базе фидаинов возле Иордана, шла мимо холма, на вершине которого была выстроена белая вилла. Сам холм в форме усеченного конуса покрыт газоном, наподобие английского, а на этой зеленой поверхности, то есть, по всему склону холма, от виллы к дороге, длинными серебристыми локонами лежали свернутые рулоны колючей проволоки. На пространстве от дороги до защитного ограждения были свалены другие рулоны проволоки. Солдаты-бедуины, часовые без будок стояли, направив оружие на дорогу, наверняка оно было заряжено, с пулей в стволе. Колючая проволока за ними казалась спадающими на плечи локонами, как у солдат Ас-Саики в Ирбиде, я говорил об этом; другие солдаты тоже находились в боевой готовности и досматривали каждую проезжавшую по дороге машину, повозку, каждого крестьянина или крестьянку. Окружавшая виллу стена с дороги казалась казематом с амбразурами и бойницами, позволяющими держать под обстрелом пулеметов или знаменитых катюш всю дорогу и обширное пространство за нею. Сама вилла за всей этой грудой хлама была не видна. Может, она и была уютной? Там по выходным в целости и сохранности мог отсидеться начальник иорданской полиции. Может, из-за ее близости к базе фидаинов доктор Махджуб принял такие предосторожности? На маленькую базу Малиджуб мы прибыли, когда уже стемнело. Увидев Набилю в комнате, доктор Махджуб словно получил удар камнем прямо в лоб. Мне показалось, он покраснел. Этот тридцатисемилетний мужчина, очень смуглый, с кожей обветренной и обожженной солнцем, широкоплечий, высокий, слегка опирающийся на окованную железом трость, покраснел, вероятно, впервые в жизни. Набиля была очень красива. В свои пятьдесят она, наверное, красивее, чем раньше. Во время осады Бейрута три летних месяца 1982 она под бомбами исполняла обязанности начальника медицинской службы профилактики в Ливане. Мы все, кроме Набиля, пожали протянутую руку доктора Махджуба, но Набиля предупредила меня заранее, поэтому я был готов к тому, что последовало дальше и не слишком удивился. Она хотела меня успокоить. Мы сели рядом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Жан Жене Влюбленный пленник [litres] обложка книги](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-cover.webp)