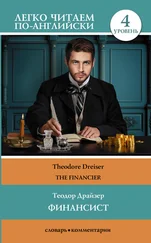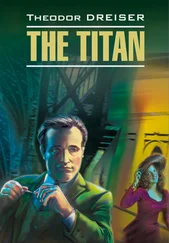– Ах, вот здесь мне очень нравится! – неожиданно заявила она, когда они вышли на узкую извилистую кентерберийскую уличку.
– Как бы мне хотелось знать, какой из этих дорог шли пилигримы! – сказала Беренис. – Может быть, как раз этой? Смотрите-ка, вот он, собор! – И она показала на башню и стрельчатые арки, выступавшие вдалеке за крышей какого-то каменного здания.
– Красота! – сказал Каупервуд. – И день сегодня выдался подходящий… Ну как, сначала пообедаем или будем наслаждаться собором?
– Сначала собор, – заявила Беренис.
– А потом придется довольствоваться холодной закуской, – язвительно заметила миссис Картер.
– Мама! – негодующе воскликнула Беренис. – И тебе не стыдно, в Кентербери!
– Ну я достаточно хорошо знаю эти английские гостиницы. Если не можешь первой прийти к столу, то уж, во всяком случае, не надо приходить последней, – заявила миссис Картер.
– Вот вам религия в тысяча девятисотом году, – усмехнулся Каупервуд. – Пасует перед какой-то деревенской гостиницей!
– Я ни одного слова не говорила против религии! – возмутилась миссис Картер. – Церкви – это совсем другое, ничего они общего с верой не имеют.
Кентербери. Монастырская ограда X века. Извилистые горбатые улички. А за стенами – тишина, величественные, потемневшие от времени шпили, башни, массивные контрфорсы собора. Галки взлетают с криком, ссорясь друг с дружкой из-за места повыше. А какое множество могил, склепов, надгробных памятников – Генрих IV, Фома Бекет, архиепископ Лод, гугеноты и Эдуард – Черный Принц. Беренис никак нельзя было оторвать от всего этого. Кучки туристов с проводниками медленно бродили среди могил, переходя от памятника к памятнику. В склепе под маленькой часовней, где когда-то скрывались гугеноты, где они совершали богослужения и сами пряли себе одежду, Беренис долго стояла задумавшись, с путеводителем в руке. И так же долго она стояла у могилы Фомы Бекета, погребенного на том самом месте, где он был убит.
Каупервуд, которому казалось вполне достаточным иметь общее представление о соборе, с трудом сдерживал зевоту. Что ему до этих давно истлевших мужчин и женщин, когда он так полно живет настоящим! И, походив немного, он незаметно выбрался за ограду. Ему доставляло больше удовольствия смотреть на тенистую зелень парка, бродить по дорожкам, обсаженным цветами, и отсюда поглядывать на собор. Эти тяжелые арки и башни, цветные стекла, вся эта старательно украшенная церковная обитель, несомненно, являла собой величественное зрелище, но ведь все это создано руками и умом, усилиями и стремлениями таких же себялюбцев, ожесточенно отстаивавших свои интересы, как и он сам. А сколько кровопролитных войн вели они между собой из-за этого самого собора! – думал он, расхаживая вокруг. И вот теперь они мирно покоятся в его ограде, осененные благодатью, глубоко чтимые – благородные мертвецы! Но разве человек может быть по-настоящему благороден? Была ли на свете хоть одна бесспорно благородная душа? Трудно поверить. Люди живут убийством, все без исключения. И предаются похоти, чтобы воспроизводить себе подобных. Подлинная история человечества – это, в сущности, войны, корыстолюбие, тщеславие, жестокость, алчность, похоть, убийства, и только слабые придумывают себе какого-то Бога, спасителя, к которому они взывают о помощи. А сильные пользуются этой верой в Бога, чтобы порабощать слабых. И с помощью как раз вот таких храмов и святынь, как эта… Так размышлял Каупервуд, прогуливаясь по дорожкам, чувствуя себя даже подавленным этой бесплодной красотой возвышавшейся перед ним старинной обители.
Но достаточно ему было взглянуть на Беренис, внимательно разглядывавшую по ту сторону ограды какую-нибудь надпись на кресте или могильную плиту, чтобы обрести привычное равновесие духа. Бывали минуты, вот как сейчас, когда в Беренис появлялось что-то почти отрешенное, какая-то внутренняя сосредоточенная духовная красота, которая затмевала в ней блеск языческой современности, придающей ей ослепительную яркость огненно-красного цветка на фоне серого камня. Возможно, думал Каупервуд, ее увлечение этими истертыми памятниками и призраками прошлого и при этом такая любовь к роскоши сродни его собственному увлечению живописью и той радости, какую он испытывает от сознания своей силы. Если так, он готов отнестись с уважением к ее чувствам. Ему тут же пришлось проявить это на деле, потому что, когда их паломничество окончилось и они уже собирались идти ужинать, Беренис неожиданно заявила:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Теодор Драйзер Финансист. Титан. Стоик. «Трилогия желания» в одном томе [сборник litres] обложка книги](/books/431071/teodor-drajzer-finansist-titan-stoik-trilogiya-cover.webp)


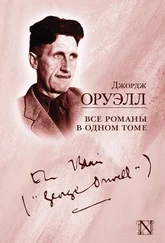



![Анджей Сапковский - Ведьмак [«Сага о Геральте» – в одном томе, 2020 год] [сборник litres]](/books/400490/andzhej-sapkovskij-vedmak-saga-o-geralte-v-o-thumb.webp)
![Александр Богданов - Русская фантастика – 2019. Том 1 [сборник litres]](/books/416857/aleksandr-bogdanov-russkaya-fantastika-2019-tom-thumb.webp)