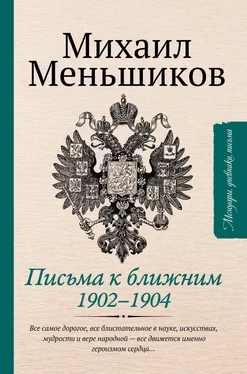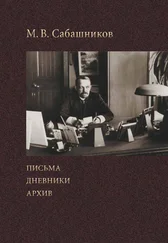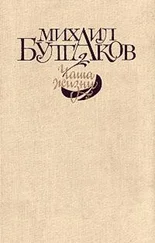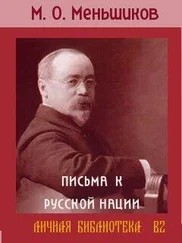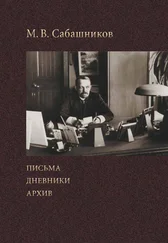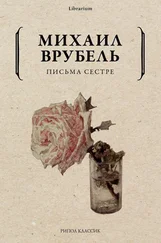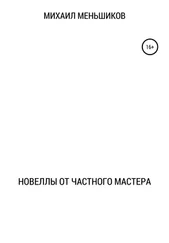Я не говорю, что у нас, в русском обществе, погас патриотизм; но, мне кажется, он у нас опасно понижен, особенно в мирное время. Нужен был гром войны, чтобы разбудить наше сознание. Нужен призрак гибели, чтобы шевельнулась острая жалость к родной, столь многими презираемой и почти забытой матери России… Не очевидно ли теперь, что государственное бытие надо отстаивать не на одних полях маньчжурских, но и в ста миллионах точек страны, на каждом посту, как бы он ни был незаметен и далек от боя?..
Съезд попечителей еще раз выдвигает вопрос о мучительно расстроенной, лежащей в развалинах учебной нашей системе. Я не знаю, время ли теперь для большой учебной реформы. Уж если мы не удосужились решить в четверть века мира великие внутренние вопросы, если все решения дотянули до войны, то мало шансов на сколько-нибудь крупную ближайшую работу. Но есть нечто, что могло бы быть предпринято теперь же, не только в учебном ведомстве, но и во всех областях внутреннего быта. Это нечто – тот же будничный труд, но утроенный, учетверенный, это живая энергия, сосредоточенная на бесспорном и вечном, это – начало строгости, проведенное сверху донизу. Очень многие, может быть, все наши учреждения нуждаются в крупных реформах, но еще более все они нуждаются в новых людях, деятельных и просвещенных. Вот чего преимущественно недостает всем ведомствам: импульса, того бродильного фермента, который заставил бы работать весело и неутомимо.
Реформа школы, как постройка светлого, просторного здания: конечно, она нужна, но напрасно было бы думать, что нельзя учиться иначе, как в светлом и просторном здании. Когда загорелся в средневековом обществе гений пытливости, то именно в самых мрачных и жалких школах нашлось достаточно пищи для самой тонкой образованности. Из темных каменных чуланов и чердаков выходили великие возбудители нынешнего просвещения, философы, поэты, математики, живописцы. Той непостижимой гибкости и упорства мысли, как тогда, той несравненной свежести воображения, увы, уже не видят в своих роскошных стенах современные университеты. Когда за границей вам показывают жилища великих людей – Данте, Микеланджело, Шиллера, Гете, – их рабочие столы и лампы, поражаешься их скудости и нищете. Но еще более скудной была их умственная обстановка. Схоластика тогдашней школы давила тяжелее каменных сводов и давала света меньше готических окон с железными решетками. И все-таки мысль народная, оплодотворенная невидимыми семенами, поднималась тогда буйно и пускала ростки в солнечный простор. Несчастье современной школы не столько в ее устаревшем стиле, сколько в отсутствии в ней жизни. Нет одушевленных учителей и одушевленных учеников, или их печально мало. Тайна учебного вдохновения как будто потеряна, та тайна очарованности знанием, которая заставляла мальчика Ломоносова делить свои средства пополам: «Денежку на книги, полушку на квас и полушку на хлеб». А знание тогда было, конечно, ничуть не выше нынешнего, напротив. Тогдашнее знание сплеталось из суеверий и самых нелепых сказок, и тем не менее оно увлекало, заставляло многих просиживать после рабочего дня целые ночи за коптящей лампой. Вы скажете, не все ученики были очарованы наукой и тогда: на единицы гениальных юношей и тогда приходились тысячи посредственностей, которые, как и теперь, ненавидели свою школу. Это едва ли так. Собственно ненависть к школе возможна только теперь, в век обязательного обучения. Прежде шли к знанию с охотой, школа не была повинностью или тяжелой модой, к ней приливала самая свежая и чистая волна молодежи. Не у всех были таланты, но почти у всех было благоговение к знанию, религиозный трепет перед ним. Я не думаю, чтобы эпоха европейского Возрождения могла когда-нибудь повториться. Как молодость, она одна в жизни каждой расы. Раз образованность сделалась общественной повинностью, совершенно неизбежна потеря радости в ней. Никакими мерами нельзя поднять умственной силы, раз ее нет у большинства. Но есть искусство почти каждую повинность делать легкой, почти желанной. Помимо знания, привлекательного только для избранных, школа в руках учителя-артиста обладает множеством средств заставить учиться. Школа – маленький клуб, где ребенок встречает то, что ему необходимо как воздух: общество равных. В школе завязывается первая, самая чистая дружба. В школе встречаются те взрослые, которым не скучно отвечать на всевозможные вопросы. Школа идет навстречу всякой любознательности, а последняя есть страсть у каждого, не слишком тупого ученика. Умелая культура этой страсти и составляет предмет педагогики. Насыщать, не пресыщая, удовлетворять умственный голод, не понижая аппетита, – искусство трудное; эта прикладная психология у нас зачаточная. Во всем свете школа переживает кризис, всюду с тяжкими усилиями вырабатываются новые формы и кое-где достигнуты блистательные результаты. Недавно мне говорили о мальчике, которого пришлось взять из целого ряда гимназий и других школ по его неискоренимой лени и отвращению к науке. Отец, человек богатый, догадался отвезти сына в Германию, в одну из известных школ. И мальчик воскрес, преобразился, его узнать нельзя. Прежде его трудно было выпроводить в гимназию, теперь он рвется туда, не опаздывает ни на минуту. Значит, метода школы не пустое слово. Значит, есть возможность повернуть науку какою-то неожиданною, увлекательною стороной. Может быть, это очень трудно, но, может быть, и крайне легко. Раз метод найден, им пользуются, как машиной. Педагогика есть своего рода политика, и к ней применима аналогия государственного опыта. Казалось бы, легко ли для государства каждый год собрать два миллиарда податей, но финансовая политика имеет для этого известный, в общем нехитрый способ. Учебная система не проиграла бы, если бы воспользовалась идеей, например, косвенного обложения. Теперь внимание ученика берется в самой тяжелой для него форме, как принудительный налог. Хочешь, не хочешь, внеси в свою память такие-то и такие-то голые факты. При бесконечном разнообразии последних это работа слишком тяжелая, иногда прямо непосильная для большинства. Но если бы те же знания прилагались, как косвенные налоги, к предметам детского потребления, к их удовольствиям и забавам, они незаметно проскальзывали бы в детскую память и укреплялись там. Зародыш подобного метода заключается в педагогических играх и особенно в детской популярной литературе. Какое множество образованных людей до старости благодарны Жюлю Верну, Майн Риду, Куперу, Вальтеру Скотту, Эберсу, Фогту, Тиндалю, Гексли и пр. за их увлекательные рассказы. О, если бы школа сумела дать хоть частичку той благородной «радости познания», какую дают названные фантазеры самым тупым из школяров. В этой радости – ключ к истинной педагогике, и кто знает, может быть, тут именно скрыт секрет широкого образования масс. Дайте грамотному народу хотя бы названных авторов, и народ сделается интеллигенцией. Пусть учебная реформа не закончена, но что мешает гг. попечителям и педагогам поработать хоть над этою, внепрограммною неофициальною стороною школы? Сделайте знание приятным, и оно всосется в народ, как молоко матери, как воздух.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу