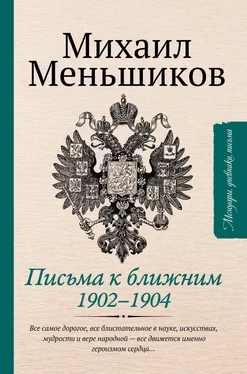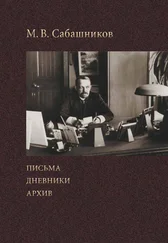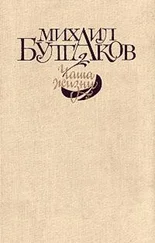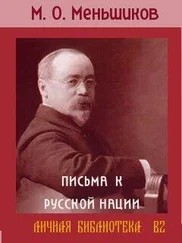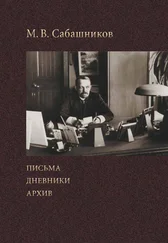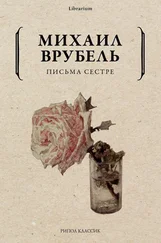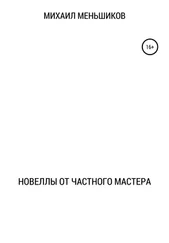Почти все царствование Петра наполняют войны. Война сама по себе есть насилие: мудрено ли, что насилие вторгалось и в области, где ему совсем не место? Нельзя с именем Петра связывать начала, общие тогда всей Европе, нельзя эти начала считать за историческое завещание. То, что выдвинуло Петра из ряда московских самодержцев, это отнюдь не жестокость и вовсе не дубина, которою он колотил друзей. Выдвигает его на недоступную высоту глубокое сознание исторических нужд России, неукротимая отвага в достижении грандиозных замыслов, вера в общечеловеческий разум и вера в способность своего народа быть великим. «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник», Петр ощущал в себе львиную душу молодого народа, стремящегося, вышедшего на поиски счастья. Не чуждый веселья самого простонародного, Петр был чужд изнеженности и ненужной роскоши, и прежде всего был чужд лени. Величие Петра в том, что, как ни один монарх в истории, он воплотил в себе идеал народный: идеал не царя только, а и просто человека. Глядя на Петра, хочется сказать: вот каким должен бы быть каждый крестьянин – таким же сильным, деятельным, предприимчивым, неутомимым, таким же простым во вкусах и верным в исполнении долга, таким же переимчивым и жадным в просвещении. Петр был до того русским, что вместил в себе кое-какие и пороки народные, но они, как в хорошем крестьянине, исчезают в блеске его достоинств, и просто некстати говорить о пороках в эти дни. Из столь замечательной души следует взять только то, что было в ней великого, и на этом нужно сосредоточить все внимание. Самое великое в Петре было, как ни странно это звучит, его смирение, его искреннее сознание невежества, которым была окутана Россия. Искренним смирением отличаются лишь исключительные умы. Петр решительнее всех предшественников признал вселенское знание выше национального, опыт общечеловеческий выше местного. Петр стал выше той глупой гордости, которая боится унизить себя принятием чужой истины. Петр искал правды и брал ее всюду, где находил. Не насилие и не дубина, а знание как секрет согласия – вот истинный девиз Петра. Он и сам учился, и всех тянул к науке, вот его движущее начало, вот настоящее, часто забываемое его завещание. Дубинка – мелочь, это средство отчаянное и случайное, и если бы сам Петр всерьез верил в дубинку, зачем тогда была бы и наука? Зачем просвещение, которое он спешил насаждать? Зачем этот восторг перед мастерством Запада и страстная мечта добиться во всем независимости свободы от иностранцев?
Возвращая нашу историю к ее началу, Петр был выразителем не татарского, а древнерусского духа, проводником исконных новгородских начал. Петр родился в Москве, но сердце в нем было вольное, мечтательное, стремящееся к всемирной жизни. Как старинные новгородцы, ходившие по морям, по широкому раздолью Волги, забиравшиеся в неведомые страны, Петр вывел Россию на дорогу подвигов, на дорогу трудных, но крайне интересных приключений. Узнавать новое, подвигаться вдаль, обмениваться со всем светом жизнью своей страны, усваивать все радостное, общечеловеческое, светлое – вот путь Петра, и это вовсе не путь насилия. Не Тамерлан или даже не Наполеон, – Петр был полон мирной, организующей энергии, полон исключительной расположенности к соседям и желания со всеми жить в дружбе. Войны Петра были восстановлением условий, необходимых для мирного сожительства, не более. Борьба Петра с русскою стариною была восстановлением правды, как он ее понимал.
Неутомимый царь умер рано, не назначив себе даже преемника. Но преемником великих дел оказался весь народ русский. Петербург – доказательство, что народ счел замыслы Петра своими собственными. За двести лет выяснилось, что дело Петра было глубоко национальное и что Петербург был более национальною потребностью, чем Москва. Вступая в третий век по-петровской эры, мы чувствуем, что дело великого реформатора не кончено. Встань он из гроба, он тотчас бы увидел огромное множество задач исторических и неотложных и, конечно, еще раз показал бы нам, что значит работать с верою, одушевлением и величием и что значит делать историю, достойную своего народа.
24-го августа 1903 г.
Совершилось нечто неожиданное, что застало врасплох и публику, и печать. Портфель министра финансов перешел из очень опытных и сильных рук – правда, в руки тоже, по-видимому, уверенные и твердые. В западной печати эта передача портфеля рассматривается как европейское событие. О нем толкуют так и этак, повторяя мифы и легенды, или, выражаясь проще, – сплетни и анекдоты, какими окружено имя всех выдающихся людей на свете. В данном случае печати рассуждать приходится об области таинственной, вроде Северного полюса: никто из журналистов, конечно, не был на месте «европейского события» и достоверно знает не больше, чем значится в трех строчках Высочайшего указа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу