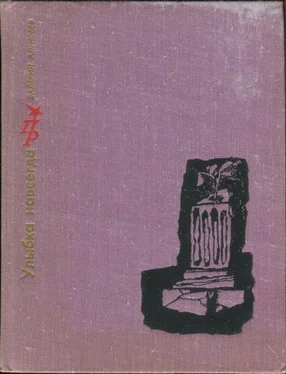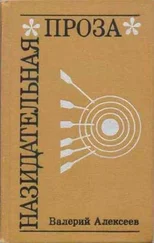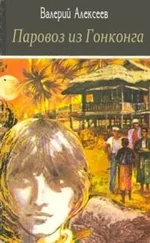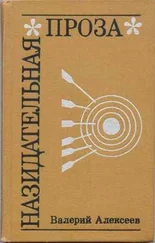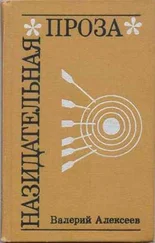Во всяком случае, то, что Никос никогда не пошел бы на такой обмен, им даже в голову не приходило.
В середине ночи Никос с удивлением обнаружил, что не слышит больше шагов Христоса, мерно расхаживавшего по коридору. Это могло означать только одно: он начинает засыпать. Никос приподнял голову, заставил себя прислушаться. Сотни отчетливых звуков стали просачиваться в камеру сквозь толстые стены, сквозь железную дверь. Тихий шорох осыпающейся ржавчины, бормотание ветра в наружной решетке, тонкое дребезжание куска стекла в разбитом окне, жесткое шуршание песка в щелях между каменными плитами… Сонный рокот мотора пробиравшейся по кварталу машины. И — вот оно, ожидаемое: слабый, приглушенный каменным гулом крик часового. Минута кромешной тишины — и такой же протяжный ответ.
Никос встал, обхватил себя за плечи, поежился от холода, подошел к двери и при слабом свете, проступающем в щель, посмотрел на наручные часы. Было без четверти три, до рассвета еще далеко, и времени оставалось, наверно, достаточно для полутора-двухчасового солдатского сна. Но по опыту Никос знал, что пробуждение будет тяжелым. Он вернулся к постели и сел, положив на колени отяжелевшие руки.
Завтрашних (или, точнее, сегодняшних) газет он уже никогда не увидит. Даже в асфалии, где в течение многих месяцев он не читал ни одного печатного слова (за исключением разве текстов полицейских афиш и плакатов, которыми были увешаны стены кабинета, куда его водили на допрос, — впрочем, то были не плакаты, а трогательные подписи под фотографиями «героев и мучеников» особого отдела, агентов, погибших «в жестокой битве с коммунизмом»), даже в асфалии у него была надежда на то, что придет день, когда ему дадут толстую кипу газет за прошедшие месяцы, и они узнает, чем жили люди все это время, и снова почувствует себя солдатом, ушедшим по заданию в глубокий тыл врага. Сегодня нет такой надежды: уже сейчас, может быть, в эту самую минуту в каком-то уголке земли происходят такие события, о которых он никогда не узнает. Но об этом лучше не думать…
Было чуть меньше трех, когда в каменной толще тюрьмы Каллитея зародился посторонний царапающий душу звук. Как прожорливый червь, этот звук продвигался сквозь рыхлую мякоть камня, вырастая в размерах, поглощая все прочие звуки, встречавшиеся ему на пути. Никос лег на постель, закинул руки за голову, приказал себе расслабиться: этот звук приближался к нему. Вот он вырос настолько, что расчленился на несколько рядом ползущих звуков: скрежет камня под ботинками, приглушенное дыхание спешащих людей, позвякивание амуниции.
Это были солдаты карательного отряда. Им, наверно, приказано было сбить шаг, чтобы не создавать лишнего шума. Но подковки на армейских ботинках все равно выдавали.
Рано, рано. Не будут же они стрелять в темноте. Значит, отвезут далеко от города?
Опередив всех, зазвенел ключами Загурас. Его мягкую поступь Никос узнавал издалека. Встать? Да нет, слишком много чести. Еще не хватало встретить их у дверей. Никос закрыл глаза и приказал своему сердцу биться медленнее. Сердце повиновалось, удары его стали редкими и размеренными, но после каждого удара оно болезненно сжималось: предчувствовало, должно быть, близкую и последнюю боль. Никос не знал этой боли и потому не ждал ее, а оно откуда-то знало и ждало.
Вот остановились у самых дверей. Скрип кожаных ремней, хруст песка под ногами. После паузы брякнули о пол приклады…
Прощай, мама… Спасибо тебе за все. Прости и прощай. Целую морщины лица твоего и рук твоих, больше я их не увижу.
— Что ты смотришь на меня так, сынок?
— Красивая ты, мама.
— Старая, — улыбается мать, — потрескалась, как глиняный горшок.
— Красивая, — настаивал он, — красивее тебя я никого и никогда не видел.
— А печальный такой почему? С другими шутишь, я знаю, улыбаешься, а со мной все грустишь.
— С тобой мне не надо улыбаться, мама. Губы мои устают улыбаться, и глаза смотреть весело устают. С тобой мои губы и глаза отдыхают. Ты понимаешь все лучше, чем другие. Тебя не надо утешать.
— Понимаю, сынок. Убьют они тебя.
— Убьют, мама. На этот раз убьют. Меня, но не мою правду.
— А что мне от твоей правды? В семью ее не примешь, и сад ею не огородишь. Уж лучше бы ты был неправым и не сидел здесь за решеткой. Сидел бы в Амальяде в гостинице нашей и играл с постояльцами в тавли.
— Ой, лучше ли?
— Мне лучше, тебе — не знаю. Не усидел бы ты со старухой. Опять за решетку потянуло бы. Ну вот, смеешься. И снишься ты мне маленьким последнее время… К смерти это, старухи говорят. Будто качаю я тебя на руках, а ты какой-то худенький, хворый, горячий, желтый… и все смеешься. Качаю, баюкаю, пою тебе песенку…
Читать дальше