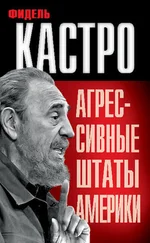Однако в те дни, когда Жука наливался коньяком более основательно, такая крупная и легко доступная цель его уже не удовлетворяла.
— Колченогий! Колченогий!
Негр Тиаго, который когда-то был рабом, а теперь, состарившись, уже почти ни на что не годился, только Жуке позволял называть себя этим оскорбительным прозвищем. Его хромая нога и без того была для него достаточно тяжким несчастьем, чтобы еще другие смеялись над нею. У многих серингейро остались на память шрамы от ударов ножом, в ярости нанесенных негром в отместку за оскорбление. Если же он не в силах был достать ножом оскорбителя, его беззубый жабий рот, постоянно жующий табачные листья, изрыгал вместе с черной слюной все известные ему ругательства, и тогда управляющий ради того, чтобы пощадить уши жены, приказывал в этот день не давать негру больше кашасы. Для того это было высшим наказанием и пыткой. Только алкоголь поддерживал еще его жизнь, изувеченную всеми превратностями судьбы, еле теплящуюся в теле этого высокого, тощего и хромого человека, похожего на черного домового.
Он жил совсем один, в старой хижине, в которой нельзя было укрыться ни от солнца, ни от дождя, и когда ему, неведомо где и как, удавалось добыть кашасы сверх установленного рациона, он напивался и всю ночь напролет осыпал громкими проклятиями своих обидчиков, посмевших называть его ненавистным прозвищем, и его неумолчные вопли поражали силой и упорством, невероятными для такого старика. Сельва вбирала в себя голос негра и разносила его эхом повсюду, наполняя ночь ужасом. Никто не мог спать: едва наступала тишина и все уже думали, что пьяница заснул, как крики возобновлялись с еще большим неистовством. В эти черные, тревожные ночи даже ягуары не подходили близко, как бы ни соблазняли их свиньи в свинарнике.
Иногда Тиаго пел. Это всегда были протяжные, тягучие песни, наполнявшие ночь тоской, заставлявшие забывать о хриплом, пропитом голосе певца. Он пел песни невольников, не столько слова, сколько мелодии песен, выученных им в детстве и привезенных в Бразилию в трюме невольничьих кораблей.
Когда-то он тоже был невольником на плантациях Мараньяна. Он помнил кнут надсмотрщика, колодки, тяжкий труд от зари до зари и кровавые рубцы от побоев. После отмены рабства, во времена Сизино Монтейро, он приехал сюда. Каучуковые деревья поглотили последние дни его молодости и годы зрелого возраста. В ту пору сельва привлекала толпы авантюристов надеждой на легкое обогащение. Тиаго продавал тогда каучук по десять мильрейсов за килограмм. Но ему так и не удалось ничего скопить. Кашаса лишала его большей части благоразумия, а наивность недавнего невольника отнимала остальную. Отсюда ему больше не выбраться. Когда Жука Тристан купил эти каучуковые заросли, Тиаго уже превратился в никчемного и смешного оборванца. Новому хозяину негр, однако, пришелся по душе своим детским простодушием и тем, что безропотно сносил все его капризы. Тиаго был здесь единственным человеческим существом, которое не поддавалось болезненной вялости, владеющей обитателями сельвы. По вечерам его огромная фигура ковыляла к реке: на лодке он объезжал берега речного притока, чтобы нарезать травы, а потом шел наверх и крошил ее на старом скотном дворе. Делал он это просто так, чтобы оправдать свое существование. Если бы он умер, никто больше не стал бы этим заниматься, и старый скотный двор потихоньку сгнил бы, а лошади и без его травы оставались бы откормленными, словно никто в мире им не был нужен.
— Колченогий! Колченогий!
Тиаго не имел привычки сразу откликаться на зов. Он притворился, что не слышит.
— Колченогий! Колченогий!
— Что вам, хозяин?
— Принеси апельсин.
Тогда это жалкое подобие человека, снисходительно подчиняясь детскому капризу, положил нож на край кормушки и направился к хозяину.
— Стань там!
Негр уже знал, что за этим последует, хоть и не мог еще привыкнуть. Он остановился и положил апельсин на свою седую курчавую голову с дорожкой посередине, прочерченной пулей, которая сорвала у него кусок кожи с волосами однажды вечером, когда Жука Тристан плохо прицелился. Стоя, расставив ноги, чтобы быть меньше ростом, с апельсином на голове, он выглядел ярмарочным паяцем, выставленным на посмешище публики.
Черный беззубый рот его сиял глупой улыбкой, а белки его глаз, все черты его лица, казалось, были нарисованы на полотне, надетом на соломенное чучело.
Жука Тристан соединил пятки, поднял ружье и прицелился… Только тогда Алберто понял. Он вскочил, намереваясь помешать… Но было уже поздно. Прозвучал выстрел, и апельсин исчез с седой курчавой головы. Жука Тристан с торжествующим видом опустил дымящееся ружье, а у негра на его лице пугала застыла гримаса страшного сомнения: он не мог понять — жив он или мертв…
Читать дальше
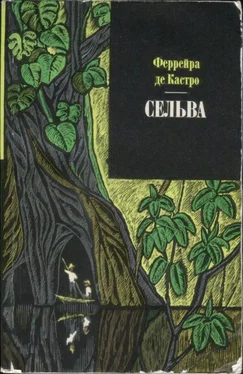
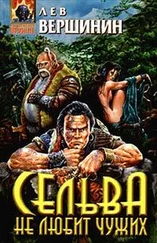

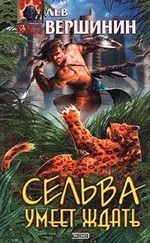




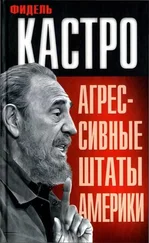
![Владстон Феррейра Фило - Теоретический минимум по Computer Science [Все что нужно программисту и разработчику]](/books/389524/vladston-ferrejra-filo-teoreticheskij-minimum-po-co-thumb.webp)