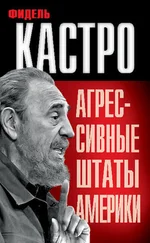— У тебя там семья?
— Была, была. Мать у меня померла в прошлом году. Ах, боже мой, как я плакал! Сам не думал, что я, мужчина, и могу так плакать! Лежал, уткнувшись лицом в гамак, чтобы Фелисиано и Агостиньо не видели.
Он вздохнул, собрал сок со следующей серингейры и продолжал:
— Я очень ее любил! Хорошая она была старуха, ничего другого не скажешь — хорошая. А что горше всего, — у меня всегда звучат в ушах слова, что она мне сказала, когда я сюда уезжал: «Сын мой, не увижу я тебя больше до Судного дня!» Словно все наперед угадала, бедная… Совесть меня мучает, что за все время не послал я старухе ни тостана. А что я мог послать? С тех пор как приехал в серингал, я денег и в глаза не видел… Брат у меня еще был… Даже не знаю, жив или помер. Он тоже хотел сюда приехать, да я ему написал, чтоб не приезжал, что дела здесь плохие. А он мне не поверил и все-таки завербовался в Акре, его туда тоже сманил один из таких краснобаев, — их много рыщет по сертанам, все болтают о здешних богатствах и все врут. Пока здесь добьется достатка… Ох! А иные и до самой смерти не могут ничего добиться. Осторожней, сеу Алберто, с колючками. Они, проклятые, прокалывают башмаки насквозь, и намучаешься, пока освободишься.
Алберто обошел препятствие, и Фирмино замолк. Они переходили молча от серингейры к серингейре. После долгого молчания Алберто спросил:
— Еще много осталось?
Оторвавшись от своих дум, мулат огляделся:
— Нет, не много. Меньше половины, — и снова замолчал.
Он шел и шел, ведро блестело у него возле колена, он, казалось, был далеко отсюда, затерявшись в никому не ведомом лабиринте. Потом, как бы решившись высказать вслух свои тайные мысли, заговорил:
— У меня там еще была любимая девушка… Не красавица, но когда любишь, то не замечаешь, красива она или уродлива. Я и сюда-то завербовался больше всего из-за любви к ней. Думал заработать здесь, чтоб жениться. Но она меня быстро забыла, и два года назад брат мне написал, что она вышла там замуж за одного подлеца. Я был взбешен и решил: когда вернусь, всажу ей нож прямо в живот. А потом остыл. Ведь она оказалась права… Я так и не вернулся, и дожидайся она меня, так и по сей день сидела бы в девках. Кто знает, вернусь я или нет… Хотелось бы вернуться. А потом хоть бы и умереть. С каждым, кто уезжает из сертана и долго не может заработать на обратный путь, случается одно и то же. Коли он женат и оставил трех детей, то найдет пятерых… Коли оставил невесту, то может искать другую, его невеста давно уже замужем…
— Везде одно и то же, — сказал в утешение ему Алберто.
— А у вас что, жена в Португалии?
— У меня? Ну что ты! Нет. Ни жены, ни невесты. Одна только мать. Но знаю, что повсюду так.
— Мне вас жаль, сеу Алберто. Серингал не для белого человека. Вы тоже приехали сюда, чтоб разбогатеть?
— Нет, нет! — запротестовал Алберто. Он чувствовал себя униженным, неловко одетым, вот так, в брюках и рубашке, без галстука, без воротничка, без пиджака и без жилета, — лучше бы уж на нем был грубый рабочий костюм, как на Фирмино.
— Тогда какого же дьявола, сеу Алберто, вас занесло сюда?
— Так уж вышло…
Мулат не продолжал своих расспросов. И его скромность, свидетельствовавшая о природной деликатности, вызвала у Алберто желание все ему рассказать.
Пока он говорил, с упоением вспоминая не только хорошее, но и плохое, ему казалось, что время шло быстрее и дорога не была так утомительна.
Когда они вернулись в Тодос-ос-Сантос, Фирмино сказал:
— Теперь пойдем туда, где окуривают.
Это было тут же, за плантацией сахарного тростника. Все происходило под соломенной крышей хижины, которую как будто кто-то сорвал и положил на землю. С каждой стороны было по углу, в одном из них — вход для рабочих-серингейро. Поначалу, войдя, Алберто ничего не видел из-за дыма и испугался, что сейчас задохнется. Постепенно он, однако, различил Агостиньо, сидевшего на ящике, причем у ног его стоял бойан, — накануне Алберто как раз все гадал, что это такое. Он напоминал собой лишенную трубки воронку или металлический рупор, из которого выходили густые клубы дыма. В нем тлели пальмовые косточки, разгораясь от притока воздуха, поступавшего через отверстие в нижней части. И как только появлялось пламя, в верхнее отверстие засыпались новые косточки: для окуривания сока нужен был не огонь, а дым. Рядом опирался краями на четыре подпорки цинковый таз, на дне которого белел латекс. Агостиньо не торопясь брал его лопаткой, которую держал в руке, и поливал жидкостью, после чего подносил лопатку к дымящемуся отверстию. Сок под воздействием дыма высыхал и быстро менял цвет. Из белоснежного он становился коричневым, густел и начинал тянуться. Время от времени на лопатке, которая одевалась во все более толстый слой каучука, образовывался пузырь, но ловкий палец серингейро раздавливал его, выпуская воздух.
Читать дальше
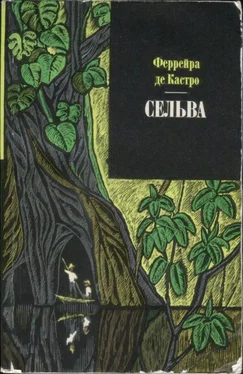
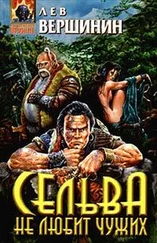

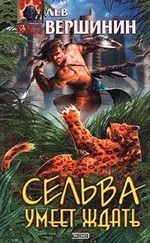




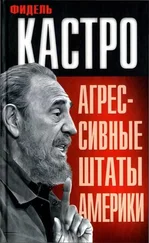
![Владстон Феррейра Фило - Теоретический минимум по Computer Science [Все что нужно программисту и разработчику]](/books/389524/vladston-ferrejra-filo-teoreticheskij-minimum-po-co-thumb.webp)