И как бы стараясь доказать священнику, что он другого поля ягода, нежели дядя Нед, папаша стал еще с большим рвением относиться к своим церковным обязанностям. Он выбился в церковные старосты – пост, которым безмерно гордился и благодаря которому во время воскресных служб ему дозволялось участвовать в сборе пожертвований. Представить, как мой папаша шествует по проходу конгрегационистской церкви с ящиком для пожертвований в руках, как он, благоговея, стоит перед алтарем, пока священник благословляет дарителей, кажется мне сейчас настолько невероятным, что я даже не знаю, что сказать. Мне больше нравится представлять его таким, каким я знал его в детстве, каким встречал его по воскресным дням у переправы. На подходе к переправе располагалось тогда три салуна, в которых по воскресным дням было полно народу, желающего слегка подкрепиться у просторной буфетной стойки и подзаправиться жбанчиком пива. Как сейчас вижу своего папашу в его неполные тридцать лет: здоровая, добрая душа с улыбкой для всех и каждого и милая безделушка для приятного времяпрепровождения; вот он положил руку на стойку, и его соломенная шляпа съехала на затылок; вот его левая рука поднялась, чтобы смахнуть шапку пены с пива. Мои глаза тогда находились примерно на уровне его массивной золотой цепочки, крест-накрест пересекавшей жилет; помню его легкий шерстяной костюм в черно-белую клетку, который он носил в середине лета, – как он выделялся в нем на фоне других примостившихся у стойки мужчин, которым не посчастливилось родиться портными. Помню, как он погружал руку в стеклянную вазочку на широкой буфетной стойке, доставал горсть соленых претцелей и угощал меня, говоря, что я должен сбегать посмотреть на доску счета в окошке «Бруклин таймс» неподалеку. И быть может, как только я выбегал из салуна узнать, кто выигрывает, возле самой кромки тротуара по узенькой полоске асфальта, проложенной специально для них, проносилась цепочка велосипедистов. Быть может, к пристани как раз подходил паром, и я задерживался на секунду, чтобы посмотреть, как мужчины в униформе возятся возле больших деревянных колес, к которым приделаны цепи. Как только распахивались воротца и спускались сходни, из-под навеса вырывалась толпа и моментально исчезала в салунах, натыканных там на каждом углу. Это были времена, когда старик прекрасно понимал смысл слова «умеренность», когда он пил потому, что испытывал настоящую жажду, и когда опрокинуть жбан пива у переправы считалось истинно мужской привилегией. В общем, происходило как раз то, о чем так хорошо сказал Мелвилл: «Потчуйте всякое создание удобоваримой для него пищей, если таковая, конечно, доступна. Пищей душе служит свет и пространство – ну так и потчуй ее светом и пространством. Телу же пищей служат устрицы и шампанское – вот и потчуй его устрицами и шампанским – и сим да заслужит оно себе радостное воскресение, если оно когда-нибудь состоится». Да, мне казалось тогда, что папашина душа еще не сморщилась, что ее так и распирает от света и пространства и что тело его только и делает, что употребляет в пищу все то, что удобоваримо и доступно: если и не устрицы с шампанским, то по меньшей мере доброе легкое пиво с солеными претцелями. Его тело тогда не подвергалось осуждению, равно как и его образ жизни и отсутствие веры. Равно как и окружали его пока что не стервятники, а лишь добрые товарищи – простые смертные, такие же, как он сам, которые ни звезд с неба не хватали, ни землю носом не рыли, а смотрели прямо вперед, сосредоточив взгляд на горизонте и довольствуясь зрелищем оного.
Теперь же – дряхлая развалина – он сделался церковным старостой и стоит перед алтарем поникший и седой, пока священник благословляет скудные пожертвования, которые пойдут на устройство дополнительной дорожки для игры в шары. Быть может, он чувствовал необходимость на собственном опыте познать рождение души, обеспечить ее губкообразное разбухание, подпитывая ее тем светом и пространством, которые предлагала конгрегационистская церковь. Но теперь это было жалкое подобие человека, познавшего радости той пищи, коей страстно желало тело и каковая же без зазрения совести до краев заполняла и его губкообразную душу тем светом и пространством, что были не богоугодны, но лучисты и ощутимы. Мне снова вспоминается его солидная «корпорация», снабженная массивной золотой цепью, и я думаю, что после того, как его брюшко приказало долго жить, не оставалось ничего иного, как продлить существование губки души в качестве некоего приложения к его собственной телесной смерти. Священник, проглотивший отца, как какой-нибудь бесчеловечный пожиратель губок, представляется мне смотрителем вигвама, увешанного духовными скальпами. Я думаю о том, что впоследствии обернулось для губок трагедией, ибо хотя священник и обещал свет и пространство, однако не успел он исчезнуть из жизни моего отца, как рухнул весь воздушный замок.
Читать дальше
![Генри Миллер Тропик Козерога [litres] обложка книги](/books/420505/genri-miller-tropik-kozeroga-litres-cover.webp)




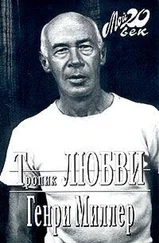



![Кристофер Браун - Тропик Канзаса [litres]](/books/414877/kristofer-braun-tropik-kanzasa-litres-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)