С последним взмахом крыльев загробного храпа, уносящих трепещущую жизнь, вижу – отворяется дверь, и в ней показывается Гровер Уотрос. «Христос с вами!» – бросает он с порога, подтягивая свою увечную ножонку. Сейчас он уже вполне сложившийся молодой человек и к тому же нашел Бога. Есть только один Бог, и Гровер Уотрос Его нашел, так что и говорить больше нечего – разве что пересказать все заново на новом для Гровера Уотроса божественном языке. Этот блестящий новый язык, изобретенный Богом специально для Гровера Уотроса, явление для меня весьма и весьма загадочное, потому что, во-первых, я всегда считал Гровера непроходимым тупицей, во-вторых, потому что я обнаруживаю, что на его музыкальных пальцах не осталось и следа от табачной желтизны. Когда мы были мальчишками, Гровер жил в соседнем доме. Время от времени он заходил ко мне поупражняться в игре в четыре руки. Хотя ему было всего пятнадцать или шестнадцать лет, он курил, как паровоз. Его мать ничего не могла с этим поделать, так как он был гений, а гению нужно давать поблажку, в особенности если ему к тому же не посчастливилось родиться с увечьем. Гровер принадлежал к той разновидности гениев, которые расцветают в грязи. У него не только были пожелтевшие от никотина пальцы, но и отвратительные черные ногти, вечно ломавшиеся от долгих часов музицирования, налагая, таким образом, на юного Гровера упоительную обязанность отгрызать их зубами. Гровер имел обыкновение повсюду расплевывать огрызки ногтей и застрявшие в зубах табачинки. Это было восхитительно и действовало возбуждающе. Сигареты прожигали дырки в пианино и, как критически замечала моя мать, сводили блеск с клавишей. Когда Гровер уходил, в гостиной стояла вонь, как в потайной комнатке владельца похоронного бюро. Там воняло окурками, потом, грязным бельем, гроверовской бранью и сухим зноем, оставленным затихшими нотками Вебера, Берлиоза, Листа и K°. Воняло там и гноящимися гроверовскими ушами, и его гнилыми зубами. Воняло потаканьями и понуканьями его матери. Его собственный дом ничем не отличался от хлева, но наша гостиная напоминала приемную гробовых дел мастера, а Гровер был неотесанным деревенщиной, не умевшим даже как следует вытереть ноги. В зимнюю пору из носа у него текло, как из сточной трубы, и, будучи по уши погружен в свою музыку, он не утруждался даже воспользоваться носовым платком, так что его соплям предоставлялось стекать вниз, пока они не достигали его верхней губы, откуда он слизывал их чрезвычайно длинным белым языком. Напыщенной музыке Вебера, Берлиоза, Листа и КО это придавало пикантный привкус, благодаря чему эти худосочные демоны становились съедобными. Каждое второе слово, слетавшее с гроверовских уст, было ругательством, а его излюбленным выражением – «Никак не могу разобраться с этой ебаной пьесой». Временами он так раздражался, что, сжав кулаки, обрушивал их на клавиши и колошматил по ним, как очумелый. Это, вероятно, его гений ломился не в ту дверь. Мать Гровера, кстати, придавала огромное значение этим приступам гнева: для нее они служили доказательством того, что в ее сыне что-то есть. Иные утверждали, что Гровер просто невыносим. Правда, многое прощалось ему из-за его искалеченной ноги. Гровер был парень не промах и не гнушался извлекать выгоду из своего несчастья: он всегда изображал сильные боли в ноге, когда ему необходимо было чего-то добиться. Одно лишь пианино, пожалуй, оставалось безучастным к его увечью. Потому-то, наверное, оно и служило объектом проклятий, пинков и тумаков. Когда же, с другой стороны, Гровер пребывал в хорошей форме, он мог просиживать за пианино часами: его в буквальном смысле невозможно было и за уши оттащить. В такие минуты его мать непременно выходила на лужайку перед домом и подкарауливала соседей, чтобы выудить из них несколько слов похвалы. Бывало, она так увлекалась «божественной» игрой своего сына, что забывала даже приготовить ужин. Папаша гения, работавший в коллекторе, обычно приходил домой изрядно проголодавшимся и сердитым. Иногда он шел прямо наверх, в гостиную, и спихивал Гровера с табурета. Он и сам был не прочь посквернословить, а уж когда давал себе волю в отношении гения своего сына, Гроверу едва ли оставалось чем ответить. По мнению папаши, Гровер был просто-напросто обленившийся сукин сын, производивший слишком много шуму. Не раз он угрожал выкинуть это ебаное пианино в окно, а заодно и самого Гровера. Если мать осмеливалась вмешаться во время таких сцен, он давал ей зуботычину и посылал «поссать на конец веревки». Хотя, конечно, и у него бывали минуты слабости, и тогда он спрашивал Гровера, что за дребедень он тут тарабанит, и, если тот отвечал, к примеру: «Да это Патетическая соната», – старый болван обычно возмущался: «Это еще что за тарабарщина? Нет бы написать это на нормальном, в бога душу, английском языке!» Невежество своего отца Гровер переносил еще тяжелее, чем его хамство. Он искренне стыдился своего папаши, и, когда тот скрывался из виду, Гровер нещадно его высмеивал. Немного повзрослев, он стал исподволь пускать слух, что он-де не родился бы с увечной ногой, если бы его папаша не был таким гнусным выродком. Он рассказывал, что папаша будто бы пнул его мать ногой в живот, когда та была беременна. Этот якобы имевший место удар в живот, должно быть, сказался на Гровере и в других отношениях, потому что, когда он вырос и стал вполне сложившимся молодым человеком, как я говорил, он вдруг так ревностно обратился к Богу, что в его присутствии и высморкаться нельзя было, не испросив прежде на то позволения у Господа.
Читать дальше
![Генри Миллер Тропик Козерога [litres] обложка книги](/books/420505/genri-miller-tropik-kozeroga-litres-cover.webp)




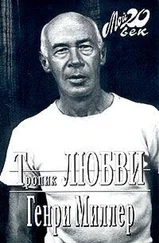



![Кристофер Браун - Тропик Канзаса [litres]](/books/414877/kristofer-braun-tropik-kanzasa-litres-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)