Бросаю мимолетный взгляд в прошлое и вновь вижу себя в Калифорнии. Я один, работаю, как невольник, на апельсиновых плантациях в Чула-Виста. Получаю ли я то, чего хотел? Пожалуй, нет. Я ничтожный, жалкий, несчастный человек. Похоже, я потерял все. Да и какой я, собственно, человек – так, животное. С утра до вечера я либо стою, либо шагаю за двумя ослами, впряженными в мою тележку. И тебе ни мыслей, ни грез, ни желаний. Я абсолютно здоров и пуст. Я пшик. Я до такой степени жив и здоров, что напоминаю наливной обманчивый плод, висящий на калифорнийском деревце. Еще один солнечный луч – и я загнил. «Pourri avant d’être mûri!» [37] Сгнил раньше, чем дозрел! (фр.)
Я ли это загниваю под этим ярким калифорнийским солнцем? Так-таки ничего от меня и не осталось – от того, чем я был до сих пор? Надо подумать… Вот Аризона. Помню, была уже ночь, когда я впервые ступил на аризонскую землю. Правда, достаточно светлая, чтобы поймать последний отблеск расплывающейся в сумерках столовой горы. Иду по главной улице маленького городка – название забылось. Что я делаю здесь, на этой улице, в этом городе? Да ведь я же влюблен в Аризону, Аризону духа, которую я тщетно ищу во все свои два зорких глаза. В поезде со мной еще оставалась та Аризона, которую я привез с собой из Нью-Йорка, – даже после того, как мы пересекли границу штата. Не тот ли это мост через каньон спугнул мою мечту? Мост, подобного которому я в жизни не видел: естественный мост, возведенный катаклизмическим извержением лавы тысячелетия назад. И по этому мосту, я видел, ехал человек, по виду – индеец, ехал он верхом, и рядом со стременем болталась длинная переметная сума. Естественный тысячелетний мост, который в лучах заходящего солнца, когда воздух был особенно прозрачен, казался самым молодым, самым новым из всех мыслимых мостов. И по тому мосту, такому прочному, такому надежному, прошли, слава тебе Господи, лишь двое – человек и лошадь. Тогда это была еще Аризона, и Аризона не как плод воображения, а воображение как таковое – в обличье лошади и всадника. И даже больше, чем воображение как таковое, ибо там не было ни намека на ауру двусмысленности – было лишь четкое и строгое, отдельно взятое понятие: в виде слитых воедино мечты и мечтателя, сидящего верхом на лошади. И когда поезд остановился и я поставил ногу на землю, нога моя оставила глубокую вмятину в мечте: я очутился в аризонском городке, указанном в расписании, но это всего лишь географическая Аризона, и любой, у кого есть деньги, может сюда попасть. Я иду с чемоданом по главной улице, а вокруг гамбургеры и агентства по продаже недвижимости. Я почувствовал себя жутко обманутым и заплакал. Уже темно, а я стою в конце улицы, за которой начинается пустыня, и плачу – дурак дураком. Которое же из моих «я» стоит здесь и плачет? Ну конечно, это мое новое маленькое «я», которое зародилось в далеком Бруклине, а теперь стоит, обреченное на гибель, посреди бескрайней пустыни. Как ты мне нужен сейчас, Рой Гамильтон! Ты нужен мне хотя бы на миг, на одно мгновение – сейчас, когда меня раздирает на части. Ты нужен мне, потому что я оказался абсолютно не готов к тому, что сделал. Но мне ли не помнить, как ты говорил, что необязательно предпринимать путешествие, но совершить его, если почувствую, что иначе никак. Почему ты не отговорил меня ехать? Ах да, ведь отговаривать не в его манере. Ну а просить совета – не в моей. И вот я здесь, я, потерпевший крах в пустыне, а мост, что был реальностью, остался позади, впереди же все та же ирреальность, и, видит Бог, я настолько озадачен и сбит с толку, что, если бы мог провалиться сквозь землю и кануть в небытие, я бы непременно это сделал.
На секунду заглядываю в прошлое и вижу другого человека, человека, оставшегося тихо погибать в лоне семьи, – своего отца. Я бы лучше понял, что с ним происходило, если бы задержался там подольше и вспомнил о существовании таких улиц, как Моджер, Консельи, Гумбольдт… в особенности Гумбольдт. Эти улицы находились в квартале, который не так далеко отступал от нашего, но был совершенно другим: более роскошным, более таинственным. Только раз ребенком я посетил Гумбольдт-стрит и не могу теперь припомнить причины этой вылазки, разве что это был визит к какой-нибудь больной родственнице, угасавшей в немецком госпитале. Но сама улица произвела на меня неизгладимое впечатление; почему – ума не приложу. Она живет в моей памяти как самая таинственная, самая заманчивая из тех улиц, что я когда-либо видел. Наверное, когда мы занимались приготовлениями к этому визиту, моя мать, как обычно, посулила мне что-то впечатляющее в качестве вознаграждения за то, что я буду ее сопровождать. Мне вечно что-то обещали, но эти обещания никогда не выполнялись. Быть может, в тот раз, когда я очутился на Гумбольдт-стрит и воочию увидел этот новый мир, я был настолько потрясен, что, скорее всего, начисто забыл о том, что мне было обещано, и вознаграждением стала сама улица. Помню, какая она была широкая и как много было по обеим сторонам высоких крылец, каких я раньше никогда не видел. Помню также, что в витрине пошивочного ателье, расположенного в нижнем этаже одного из этих необыкновенных зданий, я увидел туловище, верхнюю его часть, с болтающимся на шее сантиметром, – это зрелище, несомненно, серьезно меня взволновало. На земле лежал снег, но солнце светило ярко, и я отчетливо помню, как на донышках обледенелых урн поблескивали маленькие лужицы талой воды. Казалось, вся улица вот-вот растает в лучах зимнего солнца. На перилах массивных лестниц слежавшиеся кучки снега, похожие на маленькие пушистые подушечки, начинали понемногу подтаивать, разламываться, обнажая темные «заплаточки» бурого камня, который был тогда на пике моды. Маленькие стеклянные таблички врачей и дантистов, прилаженные в уголках окон, всеми цветами радуги сияли в лучах полуденного солнца и впервые заставляли сомневаться в том, что их кабинеты – это камеры пыток, какими я их всегда знал. Я вообразил, вообразил по-детски, что здесь, в этом квартале, и в особенности на этой улице, люди были более дружелюбными, более открытыми и, разумеется, бесконечно более благополучными. Должно быть, я и сам, хотя совсем еще крошка, почувствовал себя гораздо раскованнее, потому что впервые лицезрел улицу, которая казалась начисто лишенной всего того, что внушает страх. Именно такая улица – просторная, роскошная, сияющая, подтаявшая – позднее, когда я стал зачитываться Достоевским, и ассоциировалась у меня с петербургскими оттепелями. Даже церкви здесь были какого-то другого архитектурного стиля: было в них что-то восточное – что-то грандиозное и в то же время теплое, что меня и пугало, и заинтриговывало. На этой широкой, раздольной улице мне бросилось в глаза, что дома здесь прилично отстоят от тротуаров, покоясь в тишине и величии, не загаженные вкравшимися тут и там лавочками, заводиками, ветеринарнями. Мне открылась улица, состоящая из одних особняков, и я исполнился благоговения и восторга. Все это я помню, и, разумеется, все это повлияло на меня самым серьезным образом, однако этого недостаточно, чтобы объяснить ту необыкновенную власть, которую по сей день имеет надо мной эта улица, то страстное влечение, которое вызывает во мне одно лишь упоминание о Гумбольдт-стрит. Как-то ночью, спустя несколько лет, я вернулся туда, чтобы снова взглянуть на эту улицу, и она взволновала меня пуще прежнего. Сам облик улицы, безусловно, изменился, но была ночь, а ночь всегда менее жестока, чем день. Вновь я испытал непонятный восторг перед размахом роскоши, которая местами уже поблекла, но пьянила по-прежнему, по-прежнему проступала отдельными «заплаточками», подобно тому как когда-то такими же «заплаточками» проступал из-под талого снега бурый камень перил. Впрочем, острее всего было почти чувственное ощущение того, что я стою на пороге какого-то открытия. Вновь со всей полнотой я осознал присутствие матери – огромные пышные рукава ее мехового пальто, жестокую спешку, в которой она протащила меня по этой улице многие годы назад, и упорную настойчивость, с которой наслаждался я зрелищем всего, что было нового и необычного. Во время этого второго визита мне как-то смутно вспомнился, не знаю почему, еще один персонаж моего детства – старая экономка, носившая заморское имя миссис Кикинг. Не помню, чтобы она страдала каким-нибудь недугом, но помню почему-то, что именно ее и навещали мы в госпитале, где она умирала, и что этот госпиталь находился где-то неподалеку от Гумбольдт-стрит, которая как раз не умирала, а сияла капелью зимнего полдня. Что же все-таки пообещала мне тогда моя мать, чего я с тех пор так и не смог вспомнить? Способная наобещать чего угодно, возможно, в тот день она по рассеянности посулила мне что-то такое невообразимое, чего даже при всем своем детском легковерии я не смог проглотить. И все же, если бы она пообещала мне луну с неба, я, даже понимая, что об этом не может быть и речи, во что бы то ни стало постарался бы вложить в ее обещание хоть крупицу веры. Я отчаянно желал того, что бывало мне обещано, и, если по здравом размышлении я понимал, что это явно неосуществимо, я тем не менее пытался собственными силами изыскать возможность сделать такое обещание выполнимым. То, что люди могут давать обещания без всякого намерения их исполнить, было для меня чем-то немыслимым. Даже когда меня жесточайшим образом обманывали, я все же продолжал верить; я обнаружил, что нечто сверхобычное и людям совершенно неподвластное противостоит превращению обещания в нуль и ничто.
Читать дальше
![Генри Миллер Тропик Козерога [litres] обложка книги](/books/420505/genri-miller-tropik-kozeroga-litres-cover.webp)




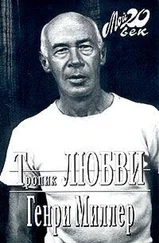



![Кристофер Браун - Тропик Канзаса [litres]](/books/414877/kristofer-braun-tropik-kanzasa-litres-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)