Именно этот вопрос веры, это давнее обещание, так и оставшееся неисполненным, наводит меня на воспоминание об отце, который на тот момент оставил серьезнейшее из своих пристрастий. Вплоть до самой его болезни ни отец, ни мать не обнаруживали никаких религиозных наклонностей. Никогда не переставая поощрять религиозные наклонности других, сами они не переступали порога храма со времени своей женитьбы. Тех же, кто посещал церковь чересчур исправно, они считали не вполне нормальными. Одного того, с какой интонацией они произносили: «Такой-то и такой-то набожен», – было достаточно, чтобы передать все презрение, отвращение, а то и жалость, которые они испытывали к подобным людям. Если паче чаяния к нам в дом неожиданно заходил пастор – справиться о нас, детях, – с ним обходились как с человеком, с которым вынуждены считаться из элементарной вежливости, но с которым не имеют ничего общего и которому не очень-то доверяют, – в общем, воспринимали его как нечто среднее между дураком и шарлатаном. При нас, например, его всегда называли «милый человек», но когда в доме собирались близкие друзья и начинали доноситься обрывки разговоров, можно было услышать совершенно иного рода суждения, сопровождавшиеся раскатами издевательского хохота вперемежку с искусным передразниванием.
Отец слег в постель в результате того, что слишком резко бросил пить. Он всю жизнь был балагуром, был охоч до веселой компании, любил кутнуть; нагулял себе солидное брюшко, лицом был кровь с молоком, был легок на подъем и приятен в общении, и казалось, ему на роду написано до глубокой старости сохранять молодецкое здоровье и бодрый нрав. Но отнюдь не все было гладко под этой личиной благополучия и беспечности. Дела его шли из рук вон плохо, долги росли, и кое-кто из друзей начал от него отворачиваться. Больше всего беспокоило его отношение моей матери. Она все видела в черном цвете и не трудилась это скрывать. Временами она закатывала истерики, набрасывалась на отца, как мегера, кляня его на чем свет стоит и швыряя тарелки на пол с угрозами уйти от него раз и навсегда. Все это кончилось тем, что, проснувшись в одно прекрасное утро, он поклялся, что ни капли больше в рот не возьмет. Никто не поверил, что он это серьезно; в семье уже бывали случаи, когда кто-нибудь клялся-божился, что переходит на аш два о, как они обычно выражались, но вскорости снова брался за старое. Никто в семье, как ни старался, так и не преуспел на ниве трезвенности. То ли дело мой папаша. Как, откуда взялись у него силы остаться верным своему решению – одному Богу ведомо. Мне это представляется невероятным, потому что, окажись я в его шкуре, я бы не бросил пить до гробовой доски. Впрочем, не мне с ним тягаться. Так впервые в жизни он хоть в чем-то проявил хоть какую-то решительность. Мать была до того поражена, что – вот идиотка-то! – начала поднимать его на смех, язвить по поводу его силы воли, которой-де у него испокон веку кот наплакал. Однако он твердо стоял на своем. Вскоре его «закадычных» друзей как ветром сдуло. Словом, долго ли, коротко, остался он один-одинешенек. Должно быть, это его и доконало, потому что не прошло и пары недель, как он не на шутку занемог, и его показали врачам. Он начал было понемногу поправляться, даже вставал с постели и делал несколько шагов, но все же оставался очень слабым. Предполагали, что у него язва желудка, но с полной уверенностью никто не мог сказать, отчего он чахнет. Тем не менее все понимали, что зря он так резко бросил пить. Но возвращаться к прежнему образу жизни было уже слишком поздно. Желудок его был так слаб, что не принимал порой и тарелки супа. Через пару месяцев от него остались кожа да кости. Он очень сдал. Стал похож на Лазаря, восставшего из гроба.
В один прекрасный день мать отвела меня в сторонку и со слезами на глазах попросила сбегать к домашнему доктору и выяснить правду о состоянии здоровья отца. Доктор Рауш с давних пор был нашим семейным врачом. Он был типичный «голландец» старой школы – порядком измотанный и скукоженный многими годами практики и все же неспособный окончательно отказаться от своих пациентов. На свой туповатый тевтонский лад он старался отваживать не слишком серьезных больных: старался во что бы то ни стало убедить их, что они здоровы. Когда входишь к нему в кабинет, он даже взглянуть на тебя не удосужится: знай себе пишет – или что он там еще делает, – засыпая тебя градом беспорядочных вопросов в вызывающе унизительной манере. Он держался так нагло, выказывал столько подозрительности, что, как ни смешно, пожалуй, это прозвучит, он будто ждал, что пациент принесет ему не только свои хвори, но и доказательства этих хворей. Он оставлял тебя с таким чувством, что ты нездоров не только физически, но и умственно. «Вам только так кажется!» – это его излюбленная фраза, которую он бросал с видом знатока и мерзкой слащавой улыбкой. Зная его, как знал я, ненавидя его всем сердцем, я заявился к нему во всеоружии, то есть с лабораторным анализом папашиного стула. В кармане пальто имелся у меня и анализ его мочи, который я предусмотрительно захватил на тот случай, если потребуются лишние доказательства.
Читать дальше
![Генри Миллер Тропик Козерога [litres] обложка книги](/books/420505/genri-miller-tropik-kozeroga-litres-cover.webp)




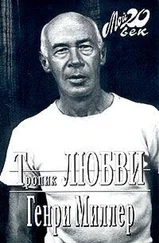



![Кристофер Браун - Тропик Канзаса [litres]](/books/414877/kristofer-braun-tropik-kanzasa-litres-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)