Тем временем другая ждет. Вот снова вижу, как она сидит, ожидая меня, на низенькой приступочке: вижу ее огромные, полные скорби глаза, ее бледное, дрожащее от нетерпения лицо. Жалость, всегда думал я, вот что гонит меня к ней назад, но стоит мне к ней приблизиться, заглянуть ей в глаза, и я больше ничего уже в этом не понимаю, – я знаю лишь одно: сейчас мы войдем в дом, ляжем рядом, и она воспрянет, разойдется, то плача, то смеясь, и потом вдруг затихнет и будет наблюдать за мной, изучать каждый мой жест, каждый шаг и никогда не спросит, отчего я терзаюсь, никогда… никогда – потому что есть одна вещь, которая ее пугает, есть вещь, о которой она страшно боится узнать. Я не люблю тебя! Неужели она не слышит, как все во мне вопит об этом? Я не люблю тебя! Все громче и громче кричу я сквозь плотно сомкнутые уста, с ненавистью в сердце, с отчаянием и яростью безысходности. Но слова эти так и застревают в глотке. Я смотрю на нее, и язык прирастает к нёбу. Это выше моих сил… Время, время, бесконечное время – тяжким бременем на наши головы, и нечем заполнить его, кроме лжи.
Ладно, не буду заново пересказывать всю свою жизнь, подводя к роковому моменту, – слишком уж это мучительно и нудно. Да и дошла ли вообще моя жизнь до этого кульминационного мига? Что-то сомневаюсь. По-моему, так их просто не счесть – тех моментов, когда у меня появлялся шанс начать все заново, но мне вечно не хватало ни сил, ни веры. В тот знаменательный вечер я по-тихому улизнул от самого себя: прямо так взял и шагнул из старой жизни в новую. Для этого не потребовалось ни малейшего усилия. Было мне тогда тридцать лет. Я имел жену, ребенка и, что называется, «ответственную» должность. Это факты, а факты ничего не значат. Правда в том, что желание мое было так велико, что оно осуществилось. В такие моменты не слишком важно, что человек делает; кто он есть – вот что берется в расчет. Как раз в такие моменты человек и становится ангелом. Именно это со мной и произошло: я стал ангелом. Не столько ценной представляется тут чистота ангела, сколько его способность летать. Ангел может в любой момент проломить стандартную модель бытия в любой точке и найти свое небо; он волен опускаться в самые низшие сферы и покидать их, когда ему заблагорассудится. В тот знаменательный вечер я понял это как нельзя лучше. Я был чист и свободен ото всего человеческого: никаких тебе пут и оков, а за спиной – крылья. Я порвал с прошлым и ничуть не тревожился о будущем. Я вышел из транса. Покинув контору, я сложил крылья и спрятал их под пальто.
Танцзал располагался прямо напротив бокового входа в театр, где я торчал целыми днями, вместо того чтобы искать работу. Это была улица театров, и я, бывало, проводил там по несколько часов кряду, предаваясь самым буйным мечтам. Казалось, вся театральная жизнь Нью-Йорка сосредоточена на одной этой улице. Это Бродвей, это успех, слава, мишурный блеск, грим, пресловутый асбестовый занавес и прореха в нем. Я любил, сидя на ступеньках театра, смотреть на танцзал напротив, на гирлянду красных фонарей, зажженных даже в ясный летний день. В каждом окне – по крутящемуся вентилятору: казалось, они выдувают музыку на улицу, где она разбивается об оглушительный грохот транспорта. По другую сторону танцзала была туалетная – там я тоже иногда ошивался в надежде закадрить женщину или стрельнуть денег. За туалетной, на уровне улицы, стоял киоск, торгующий иностранными газетами и журналами, и одного вида этих заморских изданий на чужих языках было достаточно, чтобы на целый день выбить меня из колеи.
Без всякой задней мысли я поднялся по ступенькам танцзала и направился прямиком к окошечку будки, где, отматывая билеты, восседал грек по имени Ник. Как и настенный писсуар внизу, как и ступеньки театра, эта рука грека тоже представляется мне сейчас отдельной, обособленной вещью – огромная волосатая рука великана-людоеда, позаимствованная из каких-нибудь страшных скандинавских волшебных сказок. Это была говорящая рука – именно она сообщала мне: «Мисс Мары сегодня вечером не будет», или: «Да, сегодня мисс Мара появится позднее». Именно она, эта рука, и снилась мне в детстве, когда я спал в своей спаленке с решетчатым окном. В моем бредовом сне это окошко внезапно освещалось, и за ним показывался тот самый великан-людоед и хватался за решетку. Что ни ночь, посещал меня этот волосатый монстр – он тряс решетку и скрежетал зубами; проснусь, бывало, в холодном поту – а в доме темно, и в комнате тишина и покой.
Читать дальше
![Генри Миллер Тропик Козерога [litres] обложка книги](/books/420505/genri-miller-tropik-kozeroga-litres-cover.webp)




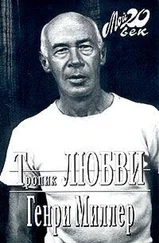



![Кристофер Браун - Тропик Канзаса [litres]](/books/414877/kristofer-braun-tropik-kanzasa-litres-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)