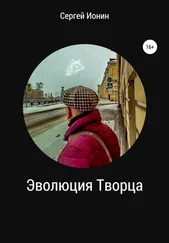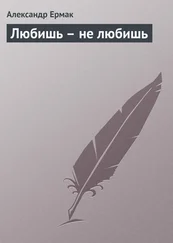— На, выпей за своего!
— Какой он мой? — заупирался Перевощиков.
— Правильно, сволочь, у тебя одного родни на этой земле нету!
— Ладно, говори… — Перевощиков вырвал руку из цепких пальцев Рубы. — Собрались тут…
Полицай ушел, а Руба, зло и страшно ругаясь, хватил костылем об пол:
— Э-эх, жизнь! — и костыль сломался.
Многое, очень многое мы тогда не понимали. Но вот однажды встретился мне в городском дворике, похожем на каменный мешок, мальчуган, пускавший в луже кораблик из сосновой коры с парусом из белой с черными письменами бересты. И все вспомнилось, как на яву, и друзья наши взрослые, и памятник Неме с надписью: «Генрих-немец. Из военнопленных».
Давно оставшийся бездетным вдовцом, после долгих скитаний с буровой вышкой по стране Николай Батурин вернулся в родной городишко, купил домик в Нижнем поселке и зажил тихо и одиноко.
Прошлая зима была самой долгой в жизни Николая. Казалось, что земной шар летел в пространстве, подгоняемый вьюгами. Северо-западные ветры несли снегопады. Ночами выло в трубе и гремели растрескавшиеся от жары и морозов, дождей и солнца незакрывающиеся ставни. Метели бились в стекла и, обессилев, выпадали сугробами перед домом. И дом, наполовину занесенный, укрытый снегом, со стороны походил на старика, нахохлившегося, надвинувшего до бровей шапку.
По утрам, кряхтя, Николай шел за углем и дровами, затапливал печь, потом отгребал снег от ворот. Ему было тяжело. Болела нестерпимо спина, видимо, влияла погода. Да и годы…
А спину Николай застудил давно, еще в сорок третьем году. Тогда он вернулся в свою геологоразведку на должность бурмастера после боев под Тихвином и долгих госпитальных месяцев.
Такой же лютой зимой они бурили на Ай-куле. Степное озеро это было ледникового происхождения, мелкое. Искали уголь. Вышка стояла прямо на льду.
Везучим бурмастером был Батурин, уголь нашли сразу, только забурились на пять метров. Под ледяной коркой, слоем воды и земли был выход угольного пласта. Но еще до самой весны они таскали вышку по льду, определяли мощность пласта.
И вот, когда уже ветра принесли теплое дыхание весны и работы подходили к концу, сорвало мотор с вышки. Он с высоты шлепнулся на лед, пробил его и ушел на дно.
Бурильщики столпились вокруг образовавшейся проруби. Нервно смеялись, все отделались испугом, никто не пострадал. Но лучше бы этот мотор упал на голову Николая. Он-то сразу понял, что потопленный мотор может дорого ему стоить — время военное.
Постепенно это дошло и до бурильщиков. Спасение было в одном — достать мотор. Кто-то должен был нырять в эту прорубь, чтобы зацепить его тросом. Кто? Вызвался самый молодой, шестнадцатилетний Васька Кайгородов. С отцом Васьки Батурин работал до войны. Кайгородов-старший погиб под Москвой. Не мог Николай разрешить Ваське рисковать, не должен был. Он полез сам, хотя сроду не умел плавать.
В этом месте глубина была около семи метров.
Николай нарядился в ватник, привязал к поясу страховочную веревку, в одну руку взял конец троса, в другую обмотанный проволокой керн потяжелее и бултыхнулся под лед. Секунд через десять бурильщики вытащили его. Неудача!
Только с третьего раза, обледенелый, вконец продрогший, он сумел зацепить трос за треклятый мотор.
Николая сразу раздели, растерли снегом, и все-таки на другой день, когда он наклонился выбить из трубы керн, спину вдруг пронзило страшной болью, и он не смог разогнуться.
Неделю Батурин не выходил к буровой. Лежал на парах и смотрел через дырки в дверце на пламя, клокотавшее в ненасытной и все равно плохо обогревающей фанерный вагончик «буржуйке».
Но долго болеть было некогда. Однажды Николай осторожно встал и, опираясь на палку, горбясь, пошел к буровой да и забыл о боли.
Забыл надолго.
Все прошедшие годы боль лишь изредка давала знать о себе. Николай в парной выхлестывал ее пихтовым веником, а летом выжигал горячим, пропитанным солнцем песком.
Но пришла зима… Зима его вынужденного одиночества, зима, которая заставила его под вой метелей бессонными ночами вспоминать всю жизнь, вернуться в прошлое, принесла с собой и старые болезни.
Ныли нестерпимо раны, которые даже на фронте считались легкими и с которыми он не обращался в санбат. То ли от напряжения всех сил, то ли еще от чего они заживали сами собой. Болела спина, и особенно до крика, до жути болела душа. Душа болела.
Николай садился у окна, смотрел на замысловатые морозные узоры и думал, думал… И больше всего почему-то тревожило его одно: а правильно ли прожил ты, Николай? Дак ведь нет, поди… Разве ж это добро, что одному умирать придется и не останется на земле никого — твоего корня, твоей фамилии. Пустота. Для кого жил, трудился?.. А ведь все по твоей вине. Татьяну, когда она еще могла забеременеть, сам, своей волей и властью из коллекторов перевел на буровую. Таскала она воду, днями и ночами таскала, и не помалу, вот и сорвала, видать, свои тонкие женские дела и осталась бесплодной. Да ведь некому было работать, некому ! А нужен был уголь, как нужен! И не зря же в комоде вон лежат грамоты, подписанные самим министром угольной промышленности, и медали за труд…
Читать дальше
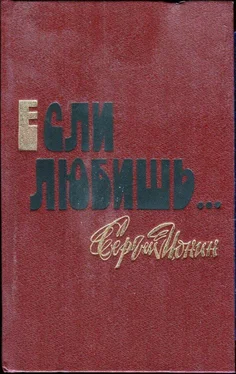



![Сергей Ионин - Русская артиллерия [От Московской Руси до наших дней]](/books/427765/sergej-ionin-russkaya-artilleriya-ot-moskovskoj-rus-thumb.webp)