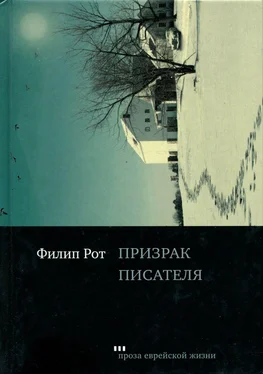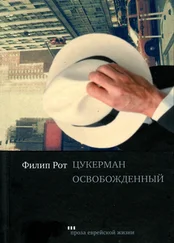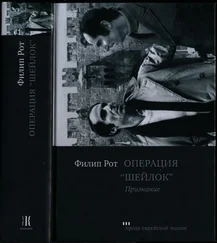— Прошу тебя, не кричи на меня! Мне такого не выдержать, поэтому я и звоню. Судья Ваптер не сравнивал тебя с Геббельсом. Боже упаси! Он только был немного потрясен твоим рассказом. Как и все мы — это-то ты понимаешь.
— Так, может, вас просто слишком легко потрясти? Евреям выпадали потрясения посерьезнее, чем те, что у меня в рассказе, где разве что есть мошенник Сидни. И молоток Эсси. И адвокат Эсси. Ты сама это прекрасно знаешь. Сама только что об этом сказала.
— Дорогой, ну так и ответь судье. Напиши ему то, что мне сейчас сказал, и дело с концом. Отец будет счастлив. Напиши ему хоть что-нибудь. Ты умеешь писать такие замечательные, такие прекрасные письма. Когда бабушка умирала, ты написал ей письмо — оно было как стихи. Оно было словно по-французски — такое прекрасное. А о декларации Бальфура как ты прекрасно написал, — а тебе тогда было всего пятнадцать. Судья вернул твое эссе отцу и сказал, что до сих пор помнит, как оно ему понравилось. Натан, он вовсе не против тебя. Но если ты будешь артачиться и выкажешь ему свое неуважение, вот тогда он будет против. И Тедди тоже, а он много чем может помочь.
— Ничто из того, что я могу написать судье, его не переубедит. И его жену тоже.
— Ты можешь сказать ему, что сходил на «Дневник Анны Франк». Хоть это ты можешь?
— Я не ходил на спектакль. Я читал книгу. Ее все читали.
— Но она ведь тебе понравилась?
— Вопрос не в этом. Как она может не понравиться? Мама, я не стану рассыпаться в банальностях, чтобы угодить взрослым!
— Но ты же только что сказал, что читал книгу и она тебе понравилась… Потому что Тедди сказал папе — Натан, но это же неправда, да? — что ты, похоже, не очень-то любишь евреев.
— Тедди все перепутал. Это я его не очень-то люблю.
— Дорогой, не умничай! Умоляю, не начинай вот это всё — за кем последнее слово. Ты просто ответь мне, я во всем этом совсем запуталась. Натан, скажи мне одну вещь.
— Какую?
— Я только цитирую Тедди. Дорогой…
— В чем дело, мам?
— Ты действительно антисемит?
— Это ты сама решай. Ты как думаешь?
— Я? Я никогда такого не слыхала. Но Тедди…
— Я помню, он выпускник университета и живет в Миллбурне, где все сплошь в коврах. Но и среди таких встречаются круглые болваны.
— Натан!
— Извини, но у меня такое мнение.
— Ох, я совсем ничего не понимаю, и все из-за этого рассказа! Если не хочешь делать то, о чем я прошу, позвони хотя бы отцу. Он уже целых три недели ждет от тебя хоть слова. А твой отец, он привык действовать, он не умеет ждать. Дорогой, позвони ему на работу. Позвони сейчас. Ради меня.
— Нет.
— Я тебя умоляю!
— Нет.
— Я просто не верю, что это ты.
— Да я это!
— А как же… как же любовь отца?
— Я теперь сам по себе!
* * *
В тот вечер в кабинете Лоноффа я снова и снова начинал письмо отцу, пытался объяснить ему что-то про себя, но всякий раз, переходя к похвалам Э.И. Лоноффа в мой адрес, я в ярости рвал написанное. Я ничего не обязан был ему объяснять, да он бы все равно мои объяснения не принял, даже если бы их понял. Узнав, что мой голос начинается под коленками и вздымается выше головы, он нисколько бы не смирился с тем, что я описал неприглядное поведение наших родственников, которое никого, кроме нас, не касается. Бесполезно было и объяснять, что размахивающая молотком Эсси получилась в моем рассказе фигурой впечатляющей, а вовсе не позором семьи; и дело не в том, что посторонние будут говорить о женщине, которая позволила себе такое, а потом еще в суде бранилась, будто мужик в баре. Да и обзор восковых фигур в моем литературном музее — от одесских бандитов Бабеля до лос-анджелесских циников Абраванеля — не убедит его в том, что я живу в соответствии с обязательствами, возложенными на меня его героем, судьей. Одесса? А почему не Марс? Он говорил о том, что скажут, прочитав мой рассказ, люди в Нью-Джерси, откуда мы все родом. Он говорил о гоях, которые и так уже смотрят на нас с необоснованным презрением и с большой радостью лишний раз обзовут жидами, так как я всему миру открыл, что евреи за деньги друг другу глотки перегрызут. Не мне бы пробалтываться о том, что такое в принципе возможно. Я хуже, чем доносчик, — я коллаборационист.
Все это бессмысленно, полный идиотизм, думал я и рвал очередное наполовину написанное письмо в свою защиту. А что наши отношения так стремительно портились — оттого, что он понес мой рассказ Ваптеру, оттого, что я отказался оправдываться перед старейшинами, — так неминуемо и случилось бы, раньше или позже. И Джойса, и Флобера, и Томаса Вулфа, романтического гения, которого я обожал в старших классах, всех их обвиняли либо в измене, либо в предательстве, либо в безнравственности как раз те, кто считал себя оклеветанным в их произведениях. Даже судье было известно, что история литературы — это в том числе и история о том, как писатели приводили в бешенство своих соотечественников, родственников и друзей. Да, конечно, наш спор еще не вошел в литературные анналы, однако, повторял я себе, писатели не были бы писателями, если бы не находили в себе сил устоять перед лицом неразрешимого конфликта и продолжать делать свое дело.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу