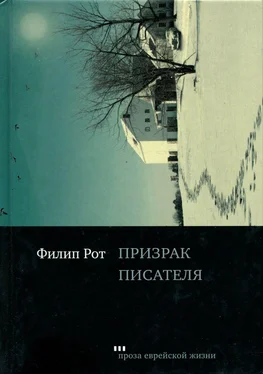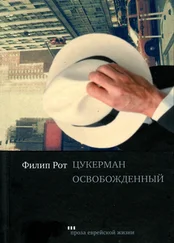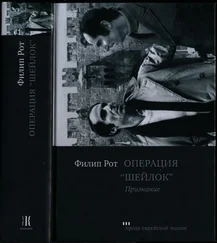Если она — перемещенное лицо, что сталось с ее родственниками? Они погибли? Не это ли объясняет ее «презрение». Но на кого же тогда направлена переполняющая любовь? На него? Раз так, презрение может быть и к Хоуп. Раз так, раз так…
Чтобы догадаться, к чему относится цитата на другой карточке, особой проницательности не требовалось. После того, о чем Лонофф говорил весь вечер, я мог понять, зачем он повесил у себя над головой эти три фразы, а сам сидел под ними и докручивал свои. «Мы работаем во тьме — делаем что можем — отдаем что имеем. Наши сомнения суть наша страсть, и наша страсть есть наша цель. Остальное — это безумие искусства». Чувства по поводу неизвестного мне рассказа Генри Джеймса «Зрелые годы». Но «безумие искусства»? Я бы сказал, что безумно все, кроме искусства. Разве искусство не есть самое здравое? Или я что-то упускаю? До исхода ночи я прочитал «Зрелые годы» дважды, словно утром должен был держать по этому рассказу экзамен. Но тогда у меня было непреложное правило: я должен был написать тысячу слов на тему «Что Генри Джеймс имеет в виду под ‘безумием искусства’?», как если бы этот вопрос написали на моей бумажной салфетке за завтраком.
Фотографии детей Лоноффа стояли на книжной полке позади рабочего стула: один мальчик, две девочки, в чертах которых отцовских генов не прочитывалось. Одна из девочек, светловолосая, веснушчатая, в роговых очках, выглядела, собственно, так, как, вероятно, выглядела ее застенчивая, прилежная мать, будучи ученицей художественной школы. Рядом с ее фотографией, в такой же рамке — открытка, отправленная августовским днем девятью годами ранее из Шотландии в Массачусетс и адресованная лично писателю. Видимо, этим и объяснялось то, что этот сувенир хранился под стеклом. Многое в его жизни указывало на то, что общение с собственными детьми у него не сложилось — как, например, не сложилось достаточное представление о Манхэттене тридцатых. «Дорогой папа! Мы сейчас в Банфшире (Шотландское нагорье), и я стою среди развалин замка Балвени в Дуффтауне, где однажды останавливалась Мария Стюарт. Вчера мы ездили на велосипедах в Ковдор (тан Ковдора, ок. 1050 года, ‘Макбет’ Шекспира), где был убит Дункан. До скорого! С любовью, Бекки».
Также прямо позади его стола располагались несколько полок его книг в переводах на иностранные языки. Сев на пол, я попытался перевести с французского и немецкого фразы, которые впервые прочитал у Лоноффа по-английски. С более экзотическими языками у меня получалось разве что отыскивать на сотнях не поддающихся расшифровке страниц имена героев. Пехтер. Маркус. Литтман. Винклер. Вот они, окруженные со всех сторон финскими словами.
А ее язык какой? Португальский? Итальянский? Венгерский? На каком она переполняется как стихотворение Байрона?
В большом линованном блокноте, вынутом из пухлого Bildungsroman портфеля — пять кило книг, пять известных лишь узкому кругу журналов и бумаги достаточно, чтобы записать целиком мой первый роман, если он вдруг явится ко мне, пока я езжу туда-сюда на автобусе, — я стал методично записывать названия всех не читанных мной книг с его полок. Немецкой философии там оказалось больше, чем я ожидал, и, дойдя лишь до середины страницы, я, похоже, приговорил себя к пожизненному каторжному труду. Однако я — честь мне и хвала — продолжал записывать, повторяя себе лестные слова, которые он сказал мне, прежде чем удалился читать. Они, равно как и произнесенный тост, целый час звучали у меня в голове. На чистом листе я наконец записал то, что он сказал, чтобы в точности понять, что он имел в виду. Всё, что он имел в виду.
Как оказалось, я хотел, чтобы это увидел кое-кто еще, потому что вскоре я позабыл о грядущем испытании Хайдеггером и Витгенштейном и уселся со своим блокнотом за стол Лоноффа, пытаясь объяснить своему отцу — мозольному оператору, первому из моих отцов — про «голос», который, согласно такому специалисту по голосам, как Э. И. Лонофф, начинается у меня под коленками и вздымается выше головы. С письмом я сильно задержался. Он уже три недели ждал осознанного проявления раскаяния за обиды, нанесенные мной тем, кто больше всех меня поддерживал. А я уже три недели его мариновал — если так можно описать состояние, когда просыпаешься от дурных снов в четыре утра и кроме как об этом больше ни о чем думать не можешь.
* * *
Неприятности начались, когда я дал отцу рукопись рассказа, основанного на истории о старой семейной распре, в которой он два года выступал как миротворец, пока противники не дошли до скандала в суде. Этот рассказ был самым значительным из мною написанного — пятнадцать тысяч слов, — и мне представлялось, что на этот раз мотивы мои были не менее благонамеренными, чем когда я из университета слал стихи родителям до того, как они появлялись в студенческом поэтическом журнале. Я не нарывался на неприятности, а ждал восхищения и похвалы. По самой старой и укоренившейся привычке я хотел доставить им удовольствие и дать возможность погордиться мной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу