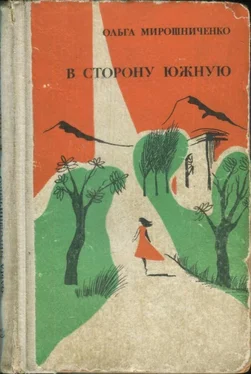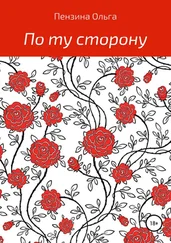Так в Таежном и осела. Квартиру дали двухкомнатную, с ванной, с горячей водой. Колька где-то чижа раздобыл, Федором назвал. Рассердилась поначалу, что мебель румынскую из карельской березы чиж этот испортит, а потом плюнула на мебель. Пускай летает, другую мебель купить можно, большое дело, зато сколько радости по утрам. Когда умывались, специально для Федора душ пускали. Он, дурачок, думал, что дождь, заливался радостно, влетал под брызги, такой гвалт поднимал.
Завидной невестой считалась, самые высокие заработки в их бригаде, но женихи все были, как говорила, «хвостатые». На материке семейка поджидала, когда вернется с денежками, да и не очень просто длинные знакомства водить, когда сын из школы уже в два приходит, а в крошечном поселке все на виду друг у друга, а кругом тундра, шаг с дороги — хлябь. А у коротких знакомств и радости и надежды короткие.
_____
Когда Саша ушла, Максим взял ее за руку, потянул за собой.
— Вот так, — похвалил, что послушалась покорно, и оставил одну, вернулся зачем-то в их комнату.
Галина огляделась, — странное жилье. Косой белый потолок, маленькое окошко высоко, в нем тучи ползут медленно, под окошком стол, заваленный бумагой, исписанной мелко, убористо. Листы бумаги на полу, скомканные, только начатые. Нагнулась, чтобы убрать по привычке хозяйственной, и испугалась — может, нельзя трогать, может, нужно так. На полочке у зеркала красивые бутылки с иностранными этикетками, яркие, блестящие лаковой эмалью цилиндры, в каких аэрозоль обычно от насекомых всяких бывает. Но на этих цветы нарисованы, надписи непонятные.
— Вот так, — Максим остановился за спиной, обнял за плечи, — сколько лет, сколько зим.
— Ровно четыре, — спокойно сказала Галина. Только на равнодушный этот тон и хватило сил. Нельзя было позволить брать себя за плечи, нельзя было отпускать Сашу, приходить в эту комнату и теперь стоять вот так, истуканом, чувствуя, как сильнее и увереннее становятся его руки.
Пахло от него хорошо, чистотой и множеством непривычных ароматов, сливающихся в один. «Богатый, — определила вдруг насмешливо, — вон сколько снадобий всяких держит, и все не наши, и все первого сорта наверняка. Ведь говорил же как-то: «У меня есть слабость к первому сорту во всем».
Освободилась, оставив ему платок, села в кресло у стола. Глянула прямо и улыбнулась: вид у него был обескураженный, стоял с платком в растопыренных руках, словно незадачливый продавец с никому не нужным товаром.
— Ты считаешь, что я виноват перед тобой? — спросил жалобно. — Но ведь я писал, а ты не отвечала.
— Давай не вспоминать, не ворошить прошлого. Расскажи о себе лучше, как жил, что делал? — и упрекнула себя за последние слова, испугалась их.
Ведь знала, что делал. Видела фильм, где недолгая история их отношений предстала с экрана с такой откровенностью и беспощадностью к ней, что стеснялась в глаза людям смотреть, думала — догадываются.
Догадалась одна Раиса, да Воронцов, наверное.
Когда возвращались из кино, Раиса поинтересовалась злорадно:
— Получила от шелеспера своего? Так тебе и надо. Ему-то польза, ты об… с ног до головы, да еще мужика из-за него хорошего прошляпила, счастье свое, из-за бабьей дури.
Галина не возражала, не оправдывалась. Хорошо еще, что Раиса себя в грубой, разбитной буфетчице не узнала. Если б узнала — конец дружбе бесповоротный. Но оказалось, ошиблась тогда. Через много месяцев как-то вспомнили в разговоре Братскую ГЭС. Раиса в котловане на стройке ее работала. Смешные истории рассказывала, веселые, и вдруг, ни с того ни с сего, про ребят, студентов из Литинститута. Двое. Приехали на ГЭС жизнь изучать и денег подзаработать. В бригаду их взяли. Ребята как ребята, неплохие даже вроде были. А когда вернулись в Москву, книжку написали — и про героизм, и про трудности в этой книжке было, как положено. Но только вот кашеварку Любку приложили — мол, грубая, некультурная — и намек, что подворовывала. А чего там подворовывать было? Может, самый большой героизм у Любки той как раз и был. Наготовь на всех на морозе, да притащи в котлован на себе, да по три раза в день — завтрак, обед и ужин — на пятнадцать лбов, и чтоб вовремя, а то отматерят так, что не забудешь.
Любка прочитала, плакала, на некультурную больше всего обиделась, а откуда ей культурной быть, девчонкой из-под Ярославля, из деревни глухой, по оргнабору в Сибирь поехала. В общем, «студенты вроде твоего шелеспера оказались, не клевал их жареный петух в темечко, и что почем, и что к чему — не понимают. Мне вот наплевать, что он про меня наворотил, — сказала Раиса, — а вот за тебя обидно, и что правды настоящей нет. Похоже на правду, а не правда. Другое дело — вот про того пропащего, помнишь, смотрели, что к матери в очках черных приходил, от стыда, что узнает. Вот это правда, сама таких встречала».
Читать дальше