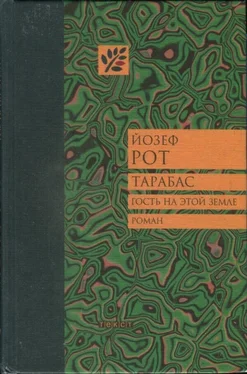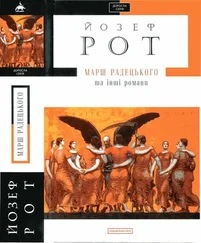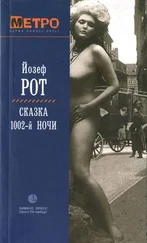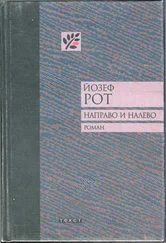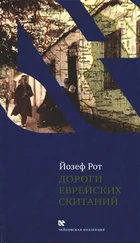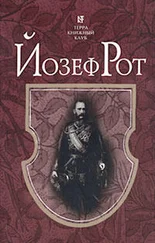Тарабас поставил свечу на ночной столик и принялся расхаживать по комнате. На гравюру он старался не смотреть. Но вскоре его охватило отчетливое ощущение, что неведомый Монтефиоре со стены пристально наблюдает за ним. Он снял портрет с гвоздя, перевернул и поставил на комод, изнанкой к комнате. Оборотная сторона рамки представляла собой голую тонкую фанерку со шляпками гвоздиков по краям.
Теперь Тарабас решил, что может спокойно ходить по комнате. Но он ошибался. Конечно, он отвел от себя взгляд Монтефиоре, зато перед глазами, как наяву, возник тот рыжий, чью бороду он еще носил в кармане. Он вновь слышал короткие, пискливые, испуганные крики еврея, которого тряс, а затем последний пронзительный его вопль.
И опять Тарабас достал из кармана спутанные комки. Довольно долго смотрел на них, тупым взглядом.
И вдруг сказал:
— Она была права! — Повторил: — Она была права. — Прошелся взад-вперед. — Она была права: я убийца.
В этот миг ему казалось, будто он взвалил себе на плечи бесконечно тяжелое бремя, но вместе с тем будто избавился от другого, еще более гнетущего. Он чувствовал себя как человек, которого в незапамятные времена приговорили поднять груз, лежащий у его ног, и который наконец-то ощущает тяжесть этого груза, хотя сам его на себя не взваливал, груз как бы ожил и улегся ему на плечи. Тарабас взял в руки свечу. И будто дверь комнаты была недостаточно высока, чтобы пропустить его, он, переступая порог, наклонил голову. Спустился по узкой скрипучей лестнице, осторожно освещая ступеньку за ступенькой. Из трактирного зала доносились голоса сотоварищей. Он вошел, с горящей свечой в руке. Поставил ее на стойку. На часах было семь. И он сообразил, что сейчас всего-навсего семь часов вечера. Коротко поздоровался. Офицеры ждали ужина. Феде он тихо сказал:
— Мне нужно в погреб, к Кристианполлеру.
Они спустились в погреб. На последней площадке Тарабас крикнул:
— Это я, Тарабас!
Кристианполлер отжал плиту железным стержнем. Федя поднял ее.
— Ваше высокоблагородие! — сказал Кристианполлер.
— Мне надо с тобой поговорить! — сказал Тарабас. — Останемся здесь. А Федя пускай уходит.
Когда они остались вдвоем, Тарабас начал:
— Кто такой этот твой Мозес Монтефиоре?
— Английский еврей, — ответил Кристианполлер. — Первый еврей — мэр Лондона. Когда его приглашали к королеве, ему отдельно готовили еду, какую предписывает иудейская религия. Он был большой ученый и богобоязненный еврей.
— Смотри сюда! — Тарабас вытащил из кармана рыжие клочья. — Смотри сюда, Кристианполлер, и пойми меня правильно! Сегодня я сделал очень больно одному еврею.
— Да, я знаю, ваше высокоблагородие, — ответил Кристианполлер. — Ведь кой-кому известно о моем тайнике. И евреи все-таки выбираются на улицу. Приходил ко мне один. Рассказал. Вы выдрали клочья из бороды Шемарьи.
— Я дам тебе солдата! — сказал Тарабас. — Ступай и приведи ко мне этого Шемарью! Я подожду здесь.
Он поднялись наверх.
— Часовой! — крикнул Тарабас.
Вместе с Кристианполлером солдат вышел на улицу.
Но уже через несколько минут трактирщик вернулся.
— Не найти его, — сказал он. — Надо вам знать, ваше высокоблагородие, он чудак. Слаб рассудком. Из-за сына у него в голове все перемешалось.
— Я знаю его сына, — сказал Тарабас.
— Евреи говорят, Шемарья сбежал в леса.
— Я его найду, — сказал Тарабас.
Оба долго молчали. Сидели они на первом этаже подвала, каждый на маленьком бочонке с водкой. На третьем горела свеча. Огонек трепетал. По сырым потрескавшимся стенам вниз-вверх метались тени обоих мужчин. Полковник Тарабас словно бы задумался. Кристианполлер ждал.
Наконец Тарабас произнес:
— Послушай, любезный! Ступай наверх. Принеси мне один из своих костюмов. Одолжи!
— Сию минуту! — сказал еврей.
— Сверни его в узел! — крикнул Тарабас ему вдогонку.
Когда Кристианполлер с узлом вернулся в погреб, Тарабас сказал:
— Спасибо тебе! Я исчезну на несколько дней, но ты никому ни слова не говори!
И он покинул погреб.
Священник поднялся. По его представлениям, был уже поздний вечер, и он собирался лечь спать.
— Я по личному делу, — с порога сказал Тарабас.
Широкий абажур висящей низко над столом керосиновой лампы оставлял верхнюю половину голых стен в густой тени. Подслеповатый старик не сразу узнал Тарабаса. Стоял в растерянности. Старая костлявая головенка находилась в тени, и тем ярче лампа освещала его старую лоснящуюся сутану с несчетными, обтянутыми тканью и тоже лоснящимися пуговичками. Узнав Тарабаса, старик сделал несколько семенящих шажков к двери:
Читать дальше