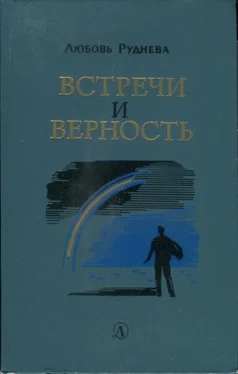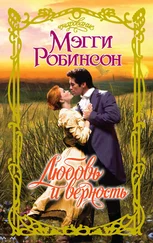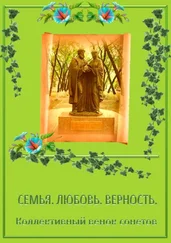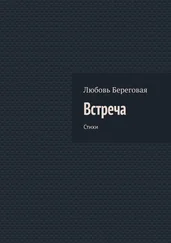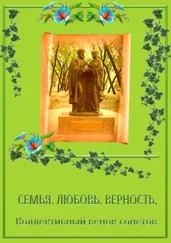— Тут написано: я пулеметчик, — кричит она совсем как Ксана, — я пулеметчик, имею право быть красноармейцем, у меня есть воинская специальность.
Какое хорошее, уважительное, непреодолимое для отказа слово — специальность.
Но военком, кажется, оглох. Он встал со стула, снова рухнул на него и закричал:
— Хватит медсестер.
— Но я же пулеметчик! — совсем тихо прошептала Нина, и тогда он услышал ее голос.
Он поднял свои тяжелые, распухшие веки, и неожиданно на Нину внимательно взглянули два грустных, почти белесых глаза, обведенных красными ободками.
— Пулеметчики нам очень нужны.
И Нина уже с нежностью смотрит на усталого военкома и на женщину, которая, несомненно, будет кашеваром. Наверное, она будет варить знаменитые борщи с приправой, так у этой женщины горит язык от крепких выражений, будто натерли его горьким перцем. Она не может закрыть рот, и из него все вылетают и вылетают, как раскаленные ядра, всякие слова: про бога и душу, про военкома и козявку-пулеметчика…
И Нина понимает, что, наконец, произошло то, чего ждала она много лет, — пришел ее час быть Анкой.
Маленькие горные дубки с крепкими корнями изранены. Переломаны ветки, белеют обнаженные, расщепленные стволы.
Деревья не кричат, не ругаются, они не могут зарыться в окопы и выкатить пушки. Карликовые дубки не умеют даже стонать, как их большие сородичи. И только туман припадает к их ранам, в этот сумеречный час прикрывая их… Передышка.
Нина гладит жесткой, потемневшей ладонью перекрученное деревце. Бок, повернутый к горным немцам, у этого деревца обуглен, оно очень холодное и все-таки еще живое, у основания влитое в Мекензиевы горы.
Туманные сумерки. Туман лежит низко, он припал к карликовым дубам и к укрытому их ветками пулемету. Сырость заползает под стеганку. Нина вплотную придвигается к дубку, обнимает его правой рукой, ее охватывает дремота. Сквозь дрему слышит поблизости голос, чистый, шутливый.
«Кажется, пришел к нам Деев, — думает она сквозь сон, — хорошо бы…»
Она просыпается через две-три минуты. Ей холоднее прежнего, но зато она отдохнула. Сон на минуты такой освежающий. Нет, ей не приснилось. Деев правда пришел в ее роту. Он недавно после ранения вернулся с Большой земли, и его засыпают вопросами:
— Какие новости на Большой земле, что с Крымским фронтом?
— Подумать надо, до чего же он неподвижен! Там, говорят, сила, много дивизий, танки?
— Может, вдарят в хвост Манштейну, и тогда — от ворот поворот, он откатится от Севастополя, и мы зажмем его с двух сторон, — веско говорит Беда, второй номер ее пулеметного расчета.
Ну, пожалуй, на этот вопрос и сам Деев не ответит. Потому что боец о чем хочешь спросить может, а дела Крымского фронта наверняка военная тайна. И комиссар, если знает ее, на все и не может найти ответ, хотя, конечно, и Нина бы послушала…
А то со своим пулеметом от многого отрываешься, — она поежилась, спрятала руки, — и не охватываешь дел даже Крымского полуострова, а не то что всей Большой земли.
Тут на Мекензиевых, кажется, свет клином сошелся. А может, и сошелся, если гонят сюда немцы дивизии из Греции да из Франции, чтобы воевать с ней, с Ниной, с Деевым, с ее вторым номером — Бедой, с командиром дивизии Коломийцем и, конечно, с самим командующим Приморской армией, с Петровым.
«До чего же все-таки нас своих тут много, только жаль, что не еще больше», — думает Нина и задремывает, сидя все около того же обугленного дубка. Она втягивает запах мокрого уголька, который источает раненый бок деревца.
И сквозь дрему слышит — спрашивает Беда:
— Что думают американцы и, конечно, англичане насчет второго фронта?
Где-то, прогрызая туман, застрочил пулемет. И смолк. И снова Нина слышит голос Беды, хрипловатый, дотошный басок:
— Вот заперли мы от фрицев Севастополь, держимся на Мекензиевых — не столкнешь, не сдвинешь, но скучно мне без картошки. А весной, товарищ комиссар, разрешат ли здесь по соседству разбить огородишки — лучку бы зелененького, того-сего.
Деев согласен, и он бы в охотку поел какой хочешь картошки: в мундире, отварной или супу картофельного. И огороды с укропом, с луком, отчего же — хорошо бы разбить.
— И как вы в темноте орудуете иголкой? — интересуется Деев.
«Наверное, — думает Нина, — Беда зашивает свою шинель. Он ее утром распялил на деревьях, чтобы просушить, а мина изорвала шинелишку. Хорошо еще, что рукав не отгрызла. Беда не огорчился, а все разглядывал ее да приговаривал: «Вместо меня ранение приняла, вот голубушка».
Читать дальше