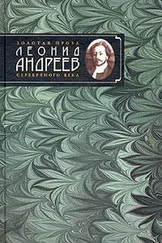— Не будем, Миша, заходить в дебри лесов, откуда нелегко выйти. Лучше посидим на той солнечной полянке нашего счастья. — Она была счастлива. Они были счастливы все эти годы, завтракая, обедая и ужиная за одним столом, дыша одним воздухом квартиры, одинаково думая о своем Феде — он должен хорошо, только на "хорошо" и "отлично" учиться, — вместе огорчаясь неудачам и радуясь успехам Абросимова на заводе и Фаины Марковны — по дому и по школе, где она выполняла самые невероятные поручения. Но чувства их с годами делались умиротворенней, страсти проявлялась менее бурно, ее как бы нивелировала постоянная близость. Теперь, на курорте, вдали от дома, разделенные парком — он жил в мужском корпусе, она в женском, — они вдруг почувствовали прежнюю, юношескую, неудержимую силу влечения. Утрами Михаил Иннокентьевич нарочно пораньше бежал в столовую, чтобы застать там Фаю и перекинуться парой слов; после обеда Фаина Марковна оставляла на попечение новых знакомых Людмилу и Клаву Горкину и спешила к своему Мише, куда-нибудь в парк, где у них была условлена встреча; вечером оба торопились на свидание к морю — так они и называли эти встречи на морском берегу — свидания…
За отвесной стеной кипарисов гулко ударил колокол, извещая курортников, что часы вечерней прогулки истекли, пора спать. Фаина Марковна встала. Встал и Михаил Иннокентьевич, поднял со скамьи платок.
— Возьмешь там, Миша, чистый, — сказала она, — в чемодане под рубашками. — Она заторопилась.
— Минуточку, Фая.
— Отбой же, отбои.
— Ладно, я тебя провожу.
— Потом побежишь бегом?
— Не беспокойся, сумею. Я же участвовал в беге на стометровку — и можешь поздравить — получил приз, отмечен в стенной газете. Кстати, ты написала домой?
— Феде? Только половину письма. — Фаина Марковна отыскала в сумочке вчетверо сложенный листок и передала мужу. — Вот, напишешь остальное.
— Обязательно. Сегодня же!
— Да сегодня уже поздно, — засмеялась она, порываясь к мелькавшим за деревьями огням женского корпуса. — Иди, Миша, к себе.
— Иду, иду, — быстро отозвался он, продолжая идти рядом. — Спокойной ночи, передавай приветы Людмиле и Клаве, я их не вижу второй или третий день. Как им отдыхается, сибирячкам, на солнечном юге?
— Отдыхают…
— Я что-то замечаю, уединяется Клавочка. Уж не влюбил ли ее в себя этот инженер-уралец, наш, оказывается, поставщик станков?
До второго звонка оставалось с минуту, и за эту минуту Фаина Марковна успела рассказать мужу о Клаве… Уединяться она не уединяется, но все время рядком со своим Димой. Посвежела, повеселела, перестала рядиться в одно серенькое платье. Даже веснушек, кажется, поубавилось на лице. Тут бы Людмиле подвернуться дружку, а то — Клаве Горкиной…
— Ну что ж, — пожал плечами Михаил Иннокентьевич, — в этом есть своя логика. Ты же, Фаечка, знаешь, как они с Горкиным живут, не жизнь, а мука, не семья, а какая-то артель по совместному добыванию и приготовлению пищи и вынянчиванию детей. Мне даже иногда лезут на память слова Энгельса, когда вижу эту далеко не счастливую пару: если — нравственен брак, заключенный по любви, то и остается нравственным только такой, в котором любовь продолжает существовать.
— Ты сегодня наговоришь!..
— Не я, Фридрих Энгельс.
Послышался опять бой колокола, удар, второй, и Фаина Марковна встрепенулась:
— Ох, Миша, опоздаем! — Абросимов едва успел чмокнуть ее в щеку, она побежала к белой мраморной лестнице подъезда.
Бегом кинулся к своему корпусу и Михаил Иннокентьевич.
В палате с большими распахнутыми окнами он устроился с электрическим фонариком возле тумбочки и, никому не мешая, дописал письмо сыну. Посидел, подумал и принялся писать на завод, Павлу Ивановичу, своему заместителю. Хотел набросать несколько строк начальнику первого механического Горкину, чтобы тот сделал новый заказ на керамические резцы, по вспомнил рассказ жены о Клаве и отложил листок с проставленной датой. Что делается с этой обычно тихой и молчаливой женщиной вдали от семьи? И хоть Клава не имела никакого отношения к резцам, Михаил Иннокентьевич не стал писать третьего письма, лишь сделал небольшую приписку в послании к Дружинину — договорятся.
Мысли о Клаве заставили подумать о странностях человеческого характера, об изменчивости судьбы, в том числе и его, Абросимова. И который раз за последние полгода он вспомнил во всех подробностях то, что произошло.
II
…Ровно через восемь месяцев после сдачи дел Подольскому Михаил Иннокентьевич снова сидел в директорском кабинете. Опять перекладывали папки с бумагами, звенели ключами от сейфа, расписывались и ставили печать. Только сдавал дела на этот раз Подольский, принимал — Абросимов. Борис Александрович без конца курил, жадно, взатяжку, и настойчиво уверял преемника, что в далекую Сибирь он ехал без особенного желания и не рассчитывал здесь долго задерживаться, что директорство — не его призвание, он с детства привык к мысли, что будет писателем, — вот вернется домой, под золотые маковки стольного города и засядет за широкое полотно.
Читать дальше