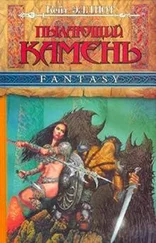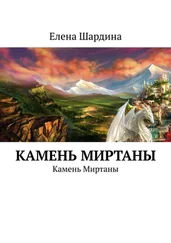Снег был везде исхожен, к каждому трупу протоптана тропка. Да, немало до меня здесь побывало, как в лес по грибы ходили, изо всех окрестных деревень.
Я даже знакомого встретил из Лозин. Деревня в четырех километрах от нас, и тоже у них фронт стоял, не хуже нашего, а поди ж ты, сюда его принесло.
— Шинель какую посправнее хотел найти, — сказал он. — Но все осколками посеченные или немецкие.
— А сапоги вам часом не попадались? — спросил я.
— Сапоги? У тебя на ногах сапоги. Эвон! И не какие-нибудь, офицерские.
— Я не себе. Брату. Ему не в чем в школу ходить.
— Поздно ты пришел. — И вытащил пол-литровую бутылку с самогоном. — На, хлебни, а то посинел весь. Без водки сюда нечего и соваться. Насмерть замерзнуть можно, это раз, а два — будут тебе потом эти бедолаги сниться. Когда фронт только сдвинулся, вот было обувки. Выбирай какую хошь и по ноге. Поуже, пошире, сапоги, ботинки, на шнурках, на застежках. Черные, желтые. Гвоздями подбитые и на резине. Даже не хуже твоих попадались. Но теперь все поснимали. Может, где еще и остались, только не по тропкам надо ходить. И хорошо б с саперной лопаткой. Случается, наверху одна голова, а до сапог копать и копать. И поторапливайся, чуть потеплеет, будут хоронить. Солтысы уже объявили по деревням. Попробуй, погляди на краю леса, авось еще лежит кто в сапогах. Только мины там, брат. Сапог можешь не найти, а руку или ногу потеряешь. Неужель погибнуть из-за сапог, когда в войну не погиб? На-ка, хлебни еще.
Делать было нечего, отдал я Сташеку на время свои офицерские, не мог же он в школу не пойти. Школа это все равно как первое причастие. Все шли. И те, что два-три класса когда-то окончили. И те, что никогда не учились. Неграмотные, холостые, женатые, детные. Сташек на аистенка был похож в этих сапогах, почти что с коленками в них утопал. Но кто бы там стал смотреть, большие, маленькие, лишь бы целые. Поначалу он как на ходулях ходил, несколько раз даже падал, но потом приноровился, размашисто стал шагать, почти не сгибая колен, и очень ловко это у него получалось, хоть и нелегко ходить в офицерских сапогах, если они не по ноге. В настоящих офицерских, конечно. Потому что люди на всякие сапоги с высокими голенищами, лишь бы блестели, офицерские, говорят. И на всякие, что у офицера на ногах. А настоящие офицерские не по голенищам узнают и даже не по званию. Настоящие офицерские должны быть шевровые, а носки, задники, вставки в голенища из кожи твердой, как жесть, и нога должна до миллиметра подходить сапогу. И не только в стопе, но и в подъеме, в лодыжке, в голени, везде, будто выделаны сапоги из твоей собственной шкуры. Можешь от роду как увечный ковылять, даже если, к примеру, господь тебе назначил так, а не иначе, ходить, а наденешь офицерские сапоги, сразу точно приставили другие ноги. Потому как мало того, что нога обута от кончиков пальцев до колена, но еще и задники держат твою пятку словно в клещах, и ты обязан шагать, как тебе сапоги велят.
Куросад из Олесницы, который мне эти сапоги шил, каждую мою ногу обмерял особо и в нескольких местах. С одной только голени три мерки снял, над лодыжкой, посередке и под коленом. Еще отдельно по голому телу и отдельно поверх бриджей. Другое дело, что такого сапожника, как Куросад, днем с огнем не сыскать. И для Орла шил, а что такое Орел, не только Куросад знал. Зайдешь, бывало, к нему, так и не скажешь, что к сапожнику, — ковер, кресла, зеркала, а сам Куросад за стойкой и: чем могу служить? И только эсэсовцам шил, партизанам и помещикам. А уж если об офицерских говорить, так и не было ему ровни. Я примерил, подошел к зеркалу, щелкнул каблуками, и показалось мне, что погибнуть в таких сапогах — совсем не то, что в обыкновенных или босиком. А Куросад аж губами зачмокал:
— Еще только шпоры — и на конь! На конь!
По полдня сидел я в соломенных лаптях в хате и ждал, покуда Сташек вернется из школы и отдаст мои сапоги. И тогда только мог выйти в деревню. Но до тех пор, думал, ошалею от скуки. Даже на дорогу из окна нельзя было поглядеть, потому что окно вечно замерзшее и надо сперва глазок продышать, чтобы хоть чего-нибудь увидеть. Правда, отец не очень-то позволял мне скучать. Сейчас принесет хомут:
— Чем без дела-то сидеть, почини.
Потом то, потом это. Потом еще что-нибудь. И так каждый день. Пока я не стал какой-то осовелый, даже говорить не хотелось ни с кем. Зайдет кто-нибудь, спросит, ну как там тебе, в партизанах, было, а мне и о партизанском житье не хотелось рассказывать, только отец и выручал:
Читать дальше