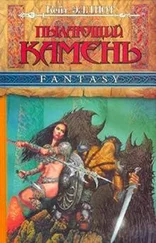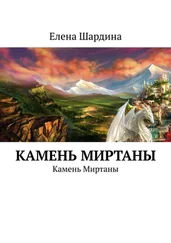Проходило с нами это седло почти целое лето. По деревням, лесам, полям. Никто не знал зачем. И никому больше не хотелось его таскать. Прикажу, тогда только и слушались. Ты немного понесешь, теперь ты, теперь ты, а теперь ты у него возьми. Злились ребята, ругались. Какого черта, командир, мы его таскаем? Кабы я сам знал. Зашвырнуть куда подальше, пусть кто-нибудь подберет. А если сволочь какая подберет? Так оно с нами и шло.
Иной раз голову на него положишь. Иногда присядешь, подумаешь. В таком седле по-другому думается, чем на пне или на траве. В конце концов ехал как-то по дороге мужик, мы и закинули седло ему в телегу. Авось пригодится, не сейчас, так после войны. А за это, если нас снова в ваши края занесет, зайдем к вам выпить кислого молока.
Саблей тоже я не повоевал. Что делать сабле в лесу — ветки срезать? Помещик сказал, еще его прапрадед ею турок рубил. Может, и правду говорил; чтобы ее из ножен вытащить, один должен был ножны между колен зажать, а другой изо всех сил тянуть, такая она была ржавая. Хотелось мне ради помещика хоть одному гаду башку снести или лапу отсечь — пусть порадуется, что и при его жизни сабля билась за отечество. Но всегда далековато оказывалось, только пулей можно было достать. Несколько раз, правда, я саблю вытаскивал, чтобы она мне хоть про турок этих чего-нибудь рассказала. Но что с железа взять, ты его спрашиваешь, а оно железо. И еще несколько раз по команде «на караул!», когда хоронили кого-нибудь из наших. А как пала моя каурка, несподручно стало с этой саблей ходить, все голенище она мне ободрала. Я и подумал, может, ты и хороша была, моя сабля, противу турок, но в этой войне ни богу свечка, ни черту кочерга. А если я и дальше по команде «на караул!» тебя на похоронах буду вытаскивать, то всех похороню. И повесил ее в лесу на дерево. Может, по сей день болтается на ветке.
Ну, саблю мне отец еще кое-как простил, на что в хозяйстве сабля.
— Турков били, говоришь? Это за нашу веру. Надо было ее в какой костел снести, пусть бы там висела, не на дереве.
А вот каурка и седло не выходили у него из головы. Для каурки у меня хоть объяснение имелось, убили ее. Но седло ведь никто не убивал.
— Ты знаешь, какая цена такому седлу? Одной кожи сколько, и шишечки, и стремена как из золота, говоришь. Ой, немалый кусок земли можно бы прикупить. Такое седло. Такое седло. Да у тебя всегда на уме только девки, гулянки, драки были, а не земля. Но всю-то жизнь ты не будешь по деревне разгуливать да на губной гармошке играть. Еще война эта тебе привалила, как слепой курице зерно, лишь бы ничего не делать.
— Скажете тоже, как слепой курице, отец. Порядком потрудиться пришлось и еще кровь пролить.
— А чем вас наделять, когда время придет?!
— Обо мне не заботьтесь. Я от вас уеду, — огрызался я, когда он уж очень меня допекал.
И правда, носился я с такой мыслью, когда только пришел из партизан. Земля меня не тянула, а после нескольких лет свободы я и совсем не представлял себя за плугом или с косой. Жалел иногда, что вернулся. Надо было сразу, как многие из наших ребят, в армию пойти или в город, или еще куда, лишь бы подальше. Только не вернуться после всего этого домой, не навестить отца, мать, братьев, деревню, было б все равно как если бы война эта не кончилась, а с нею грязь, вши, бессонные ночи, смерть. Да и думал я, поживу дома месяц-другой, отосплюсь, позабуду, чего не надо помнить, передохну и потом только. Не так, с бухты-барахты.
Но едва я переступил порог, едва перецеловался со всеми, сел, а отец сразу: мы тебя высматриваем, высматриваем, думали уже, не вернешься, а тут весна на носу, скоро пахать, сеять. Я ничего не сказал, снял сапоги, мать налила воды в таз и тоже ничего не сказала, даже не спросила, как тебе было там? Только слезы у нее по лицу потекли. Потом присела возле таза, размешала воду и начала мне ноги мыть.
А отец опять за свое. Плуг надо будет выклепать, лемех выщербился о камень. Лошадь к кузнецу свести, а то Сюдакову кузницу снаряд разбил, некому теперь подковать лошадь. Может, в какой деревне подкуют. У нашего гнедого одна подкова совсем отвалилась, а остальные стертые до копыт. Идет и оскользается, точно в санях по льду. Навоз некогда было выгрести из хлевов, такая стояла пальба. А обязательно надо хотя б под картошку набросать, пока земля еще не оттаяла, потом раскиснет — и не выедешь в поле. И хорошо, ежели навоз немного полежит, подмерзнет. Не так чтоб сразу — унавозить и пахать. Вон, погляди на потолок, течет. Там уже не побелишь, придется штукатурку сбивать. Осколок в стрехе дыру пробил. Как только дождь, мать ушат подставляет. Притащили б откуда-нибудь лестницу, ты бы и заделал дыру. И стола у нас нет. Покуда сидели в погребе, здесь кто только не хозяйничал. Что хотели брали, жгли, столы ладно, но и двери, телеги, овины. Все сады повырубали. Для землянок им дерево требовалось. Ходят теперь люди, ищут свое. И ты б походил. Сапоги у тебя крепкие. Поесть, конечно, и на коленях можно, но без стола в горнице как-то не так, словно середины нет. А там, может, еще чего найдешь. Сейчас все сгодится. Ой, богатая была война. И сколько времени здесь простояла. Выходит, и нам от нее кой-чего причитается, а не одни только беды. Хлева у нас сгорели. Видал? Ударил снаряд, огонь побежал — и на хлева. Хорошо, скотину загодя успели вывести. Стась с Антеком в очередь караулили. Слава богу, ветер в другую сторону дул, овин и хата уцелели. А то б жили теперь под голым небом. Пес сорвался с цепи и пропал, паразит. А без собаки в хозяйстве как без рук. Теперь все ночи слушай, не крадется ли вор. А была бы собака, залаяла б и отогнала. На худой бы конец тебя разбудила, если б сама не справилась. Ты поспрашивай, не ощенилась ли где сука. Для собак война не война, все равно спариваются, черти. Одному господу известно, что мы здесь пережили. Окна-то из кусочков слепили, а не то бы пришлось досками забить. Ну чего ты все думаешь, думаешь? Не успел вернуться, и уже думает.
Читать дальше