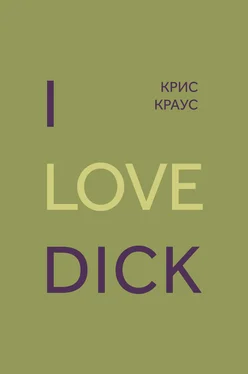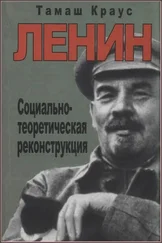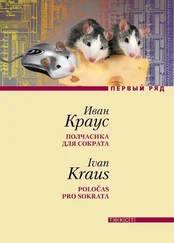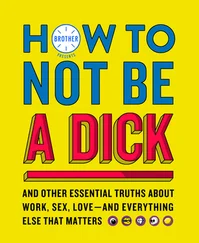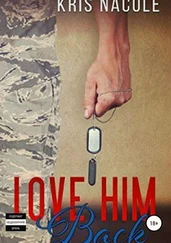Крис прислала мне по факсу свой текст о Китае –“жидовском” художнике, с которым она себя идентифицирует. Текст очень умный, он построен вокруг идиосинкратической жизни художника, неприятия критиков, Ист-Хэмптона шестидесятых годов. Я никогда не слышал о Китае, но ей удается вплести в текст все, в том числе и ее нынешнее затруднительное положение.
Текст меня очень тронул, порадовал. Теперь Крис уверена, что провал “Тяжести и благодати“ был „судьбоносным“, подталкивающим ее к дальнейшим исследованиям чувств в ее фильмах. Она пишет ни на кого не ориентируясь, ни под кого не подстраиваясь, в отличие от Дика, у которого скоро очередной доклад в Амстердаме и который никогда ничего не напишет, если его не попросят; в отличие от меня, который вот-вот прочтет свою лекцию „О зле”, получит гонорар и укатит восвояси.
И все равно Крис было очень грустно, она чувствовала себя отрезанной от Дика, и я тоже загрустил после разговора с ней. Ситуация была безнадежной: она любила его, она нуждалась в нем, ее терзала мысль о том, что она не будет с ним близка, что они не будут общаться. Я решил поговорить с Диком завтра вечером по пути в аэропорт. Не знаю, какой реакции от него ждать; в конце концов, он предельно четко выразил свою позицию по поводу завершения всей этой двусмысленной ситуации. И все-таки если он ко мне прислушается, это меня доконает: мысль о близкой связи между ними двумя, в которой мне нет места. В итоге я проплакал до двух часов ночи, погрязший в тоске и печали, страдая от бессонницы».
ПРИЛОЖЕНИЕ В: КРИС КРАУС
Лос-Анджелес, Калифорния
31 марта 1997 года
«Вчера вечером в поисках чего-то, что свяжет “Жидовское искусство”, написанное мною в марте того года, и два последних эссе, я нашла на компьютере дневниковую запись Сильвера. Потому что я решила (и все со мной согласились), что только сделав сюжетную линию предельно ясной, можно превратить эти тексты в роман. Но его дневниковая запись по-настоящему меня потрясла и очень тронула. Как же сильно он меня любит. Как близко к сердцу он принимал все мои переживания.
Этим утром я разговаривала по телефону с Сильвером, который находился в Ист-Хэмптоне. Мы обсуждали чтение. То, как мне нравится погружаться в книги других людей, улавливать ритм их размышлений, в то время пока я пытаюсь писать свою. Пишу под влиянием Филипа К. Дика, Энн Роуэр, Марселя Пруста, Айлин Майлз и Элис Нотли. Это лучше секса. Книги сдерживают то обещание, которое секс дает, но едва ли может исполнить, – возможность роста, благодаря вхождению в язык, ритм, сердце и разум другого человека.
Девятого апреля 1995 года в Лос-Анджелесе я в последний раз виделась с Диком наедине. Мы решили прогуляться вдоль Лейк-авеню. Двадцатого апреля я позвонила ему с севера штата Нью-Йорк. Я была расстроена и жаждала развязки. Наш разговор был долгим и неприятным. Он спросил меня, почему я позволила себе быть такой уязвимой? Я что – мазохистка? Я ответила, что нет. “Разве ты не видишь? Все, что со мной случилось, случилось только потому, что я этого хотела“. Двадцать третьего апреля я встретилась с Джоном Ханхардтом, бывшим в то время куратором Музея Уитни, чтобы поговорить о моих фильмах. Я ожидала, что Джон предложит мне организовать показ, вместо этого он предпочел обсудить „провал” моих фильмов.
Шестого июня 1995 года я окончательно переехала в Лос-Анджелес.
Философ Людвиг Витгенштейн записал в своем дневнике: “Пойми или умри”.
В то лето я надеялась понять связь между тем, что Дик ошибочно считает меня “мазохисткой“, и приговором, который Джон Ханхардт вынес моим фильмам. Хотя оба мужчины считали мои работы отвратительными, они признали их „умными“ и „смелыми“. Я была уверена, что, как только мне удастся понять эту связь, я смогу с ее помощью объяснить, почему критики неверно истолковывают определенный тип женского искусства. „Только недавно я осознала, что на кону стою я сама“, – писала Диана ди Прима в „Революционных письмах“ в 1973 году. „Так как мы отвергли определенный тип критического языка, люди решили, что мы просто тупые”, – сказала гениальная Элис Нотли, когда я навещала ее в Париже. Почему женская уязвимость до сих пор приемлема только в том случае, когда она вызвана неврозом или личными переживаниями, когда она отсылает к самой себе? Почему люди до сих пор не понимают, когда мы используем уязвимость как философию, отстраненно?
Сегодня в “Барнс энд Ноубл“ я купила новую книгу Стива Эриксона. Аннотация, помещавшая его в рамки нового и исключительно мужского канона, задела меня. „Эриксон – ключевой игрок… – текст в „Вашингтон Пост“ заставляет вспомнить о Нормане Мейлере в пятидесятых, – там наверху, среди своих современников, Ричарда Пауэрса и Уильяма Воллманна, представителей поколения хаоса”.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу