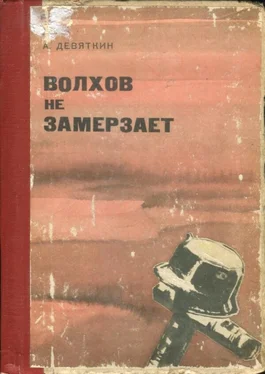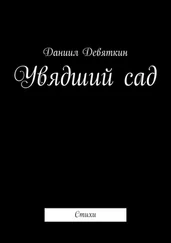Пар рассеялся. Миша с тяжелой бадейкой полез наверх. Взглянул — и чуть не загремел оттуда вместе с ушатом. Вот он, Неуловимый…
Баня и чай сморили их. Сашин гость влез на печку, Миша примостился возле. Немков — внизу с гитарой.
— Сыграй, Сашок, из «Путевочки» [1] « Путевка в жизнь » — фильм 30-х годов о беспризорниках.
, — попросил Неуловимый и сам запел тихонечко:
Эх, позабыт, позаброшен
С молодых, юных лет…
Еще в баньке Миша подумал: «Теперь самое подходящее время». Лисенком подобрался:
— Павел Афанасьевич, а вы кто? Ну, до войны кем были?..
Павел не ожидал такого вопроса, ответил не сразу.
— В двух словах не скажешь. Да и не все поймет тот, кто сам не все испытал…
Но ветер подвывал в трубе, а здесь было тепло, гитара куда-то вела. И Васькин заговорил как бы нехотя:
— Видал, Миша, как кузнец кует? Вынет клещами из горна кусок железа, положит на наковальню и бьет молотом. Сверху, с боков. Перевернет и еще раз ударит. Потом сунет в воду да в печь. Закалка!.. Жизнь хватала меня, что кузнец поковку… Трехлетним побирушкой вошел я в жизнь. Сидишь на холодных камнях — и ноги, ноги, ноги перед тобой. Кто грош бросит, кто — хлебный довесок. Ютились семьей в ночлежном доме на Охте. Угол снимали, точнее — нары. Внизу — родители, наверху — я с двумя сестренками. Больше всего «фараонов» [2] Городовые, полицейские.
боялся. В участок забирали, больно уши выкручивали. Чтоб я не затерялся, мать пришивала мне на рубашке лоскуток с адресом… Дай-ка, Сашок, махорочки.
Миша спрыгнул, достал из золы уголек, опять повозившись, пристроился на лежанке.
— Не выдержала мать такой житухи. Короче сказать: умерла… Забрал нас отец, вернулся в Борки Рязанской губернии. По дороге захворала сестренка. В дороге ее и схоронили. Эх, Миша!..
Женился батя… Тут я вовсе лишним ртом оказался. Ушел. Началась бездомная, бесприютная жизнь — скитальство. В семь-восемь годков! Совсем еще дурак был. Ну, конечно, на приманку попался. Никчемные людишки приучили труд презирать, расхвалили мне «вольную» жизнь. Красть заставили. Суду по тем законам я не подлежал как малолетний. Из милиции направят в детдом, убегу оттуда, и опять на тот же проклятый круг. Все сызнова…
Павел присел, озорно усмехнулся.
— Ну, и огарки мы были! Миша, а? Разузнали, что в усыпальнице царский генерал захоронен. При нем сабля с золотым эфесом, драгоценными камнями усыпана. Ночь, как помню, осенняя. Ветрище. Дождь хлещет. Голодные, злые.
— Вот страх! Я кладбища всегда боялся, — сочувственно прошептал Миша.
— Мы-то народ отпетый. В склепах этих не раз ночевали… Меня, самого щуплого, обвязали веревкой, опустили в каменную яму. Вдруг сверху огольцы орут: «Мильтоны!»
— Тащи, братва! — кричу я. Слышу, возня прекратилась. — Чего ж не тащите? — А чужой голос: «Сейчас, товарищ, вытащим». По стенкам шарят карманным фонариком. Отвяжусь, думаю, и в гроб лягу; ничего, потеснится покойник. А меня уже от плит оторвали. Упираюсь. Где там! Тянут рыбку из проруби. Ладно, думаю, живой не дамся.
— Разве в детдомах плохо было?
— Не разбирался я тогда, кто хорошее мне желает, а кто — плохое… Вытащили. Смотрю — не милиция, а рабочие парни, в кожанках, кепках. Комсомольцы! Радуюсь: от этих без всяких-яких убегу. Они смеются: «Ишь красавец, купеческий сынок. Пришел мамашу навестить?»
— Ваше, — говорю, — какое свинячье дело?
Посветили они надгробную доску и прочли вслух: «…Варлахина, жена купца 1-й гильдии, поставщика двора его величества…»
Саша рассмеялся:
— Вместо генерала к купчихе попал…
— Комсомольцы агитируют нас. «Вы, — говорят, — дети войны и разрухи. С этим покончено. Советская власть заботится о вас, хочет в люди вывести, на настоящую дорогу поставить…»
Опять детдом. Опять побег. Опять «на воле». Мне казалось, что я вольный казак, а выходило, что шатия крепко держала меня на коротком поводу. Барахтаюсь кутенком, брошенным в воду, хочу выбраться, а меня обратно в омут, да еще поглубже норовят. Было такое, что лучше позабыть, насовсем из памяти вычеркнуть. Стала мне жизнь не в жизнь. Зачем я родился? Кому, думаю, я нужен? Никому…
Рассказчик умолк. Миша дышать боялся. Тихо выговаривала гитара незнакомую, невеселую песню:
…На мою на могилу,
Знать, никто не придет,
Только раннею весною
Соловей пропоет…
А Павел опять заговорил:
— Едешь ночью на товарняке. Кругом степь. Черным-черна. Небо что бархат. А звезды-то, звезды! Низко горят. Кажется, рукой бы схватил. Орешь:
Читать дальше