В комнате Тома стоял жестяной умывальник и ведро с водой, которую он сам каждое утро приносил из колодца. Он всегда рассматривал свое молодое тело как храм и придавал ему большую ценность; но это чувство с годами потерялось или возвращалось лишь с большими промежутками.
Во всяком случае, подобное чувство вновь овладело им в ту ночь. Я никогда не забуду, что там, в салуне на улице Уэллса, где он рассказывал эту историю, мне вдруг ясно представилось, что из его грузного, опустившегося тела выступило что-то юное, чистое, белое.
Но я не стану отвлекаться. Пожалуй, лучше рассказывать эту повесть так же безыскусно, как он передавал ее мне.
Том встал с постели и, стоя посреди комнаты, разделся догола. На стене висело полотенце, но оно было очень грязно.
Он вспомнил, что у него имеется белая ночная рубаха, которой он еще ни разу не надевал; он достал ее из ящика маленького шаткого комода у стены и оторвал длинную полосу. Затем он тщательно обмыл все тело ледяной водой.
Каково бы ни было мое представление о нем в тот вечер, когда он рассказывал мне этот эпизод, но, несомненно, в дни своей молодости он был, каким я описывал его – юным, чистым и белым.
И в ту минуту его тело действительно было храмом.
Что касается того, что в ту ночь он держал свою жизнь зажатой в горсти, то это случилось, по-видимому, позже, когда он снова лег в постель, но, сознаюсь, я не совсем понял эту часть рассказа. Возможно, что он сбивчиво рассказывал, но возможно также, что у меня в мозгу все перепуталось.
Сколько помнится, он все время держал руку на столе, ладонью вверх, и то открывал, то закрывал пальцы, как будто в этом заключалось объяснение того, что оставалось непонятным. Но мне это ничего не объяснило тогда. Может быть, те, кто будет читать, поймут лучше моего.
– Я снова лег в постель – продолжал Том, – и, взяв свою жизнь в руки, пытался решить, хочу ли я жить или нет. Всю ночь напролет я держал так свою жизнь в руке, – сказал Том.
В его словах как будто проскальзывал намек на то, что имеются жизни кроме его собственной, с которыми надо обращаться осторожно, с которыми нельзя шутить.
Я не возьмусь определить, какая часть этих мыслей была в его мозгу тогда ночью, в дни его юности, и сколько образовалось позднее; можно уверенно сказать, что Том тоже не мог бы ответить на это.
Факт тот, что в ту ночь, когда его отец с женой улеглись и в доме стало тихо, ему казалось, что он в течение многих часов держал жизнь в зажатой горсти; и в течение этого времени жизнь принадлежала ему, и он мог, по желанию, удержать ее или выпустить с такою же легкостью, как он закрывал и раскрывал руку, лежавшую на столе в салуне на улице Уэллса в Чикаго.
– Я решил не делать этого, – продолжал Том. – Я не раскрыл пальцев и не выпустил жизни из руки. Я не видел никакой определенной цели в жизни, но что-то еще теплилось в душе. Оно возникло тогда, когда я стоял нагишом и мылся ледяной водой. Пожалуй, это была мысль, что я еще раз захочу когда-нибудь испытать радости холодной воды. В ту ночь я действительно очищал свое тело при свете луны.
– Итак, я вернулся в постель, держа пальцы сжатыми. Я держал свою жизнь в этой горсти, но когда я уже собирался выпустить ее, то вспомнил, как я мылся при лунном свете, – и я не разжал пальцев. Я держал их вот так, зажатыми в кулак, – снова повторил он, сжимая пальцы.
В течение многих лет Том работал в качестве составителя реклам, в одной конторе со мной. Теперь он был холостяком средних лет; по вечерам и по воскресным дням он сидел дома, очень скверно бренча на рояле.
Вне конторы он мало с кем общался; несмотря на то, что его молодость была исполнена тяжелых лишений, Том продолжал жить мыслью о прошлом.
Мы много лет были близко знакомы, хотя не скажу, чтобы между нами завязалась тесная дружба. Зато мы недурно выпивали вместе, хотя я был значительно моложе Тома.
Из него просачивались обрывки рассказов о его жизни; из всех знакомых, мужчин и женщин, которых я когда-либо знал, Том давал всего больше материала для писателя.
Его беседа – касалась ли речь воспоминаний или вещей воображаемых – никогда не носила характера законченности. Она была подобна клочьям, которые ветром подхватило в воздух, а потом они начинали падать на землю…
Мы провели весь вечер у стойки бара, беседуя и выпивая рюмку за рюмкой. Речь шла о нашей работе – о составлении реклам. По мере того как Том пьянел, он все больше стал напирать на значение искусства, заключавшееся в нашей профессии. В то время его зрелый взгляд на вещи несколько озадачивал меня.
Читать дальше
![Шервуд Андерсон Кони и люди [сборник litres] обложка книги](/books/400246/shervud-anderson-koni-i-lyudi-sbornik-litres-cover.webp)

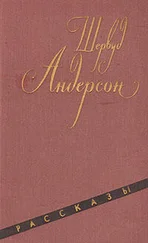
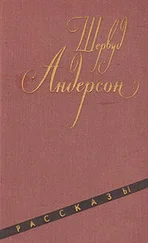
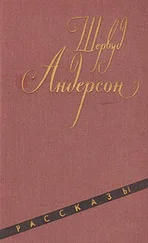
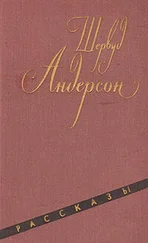
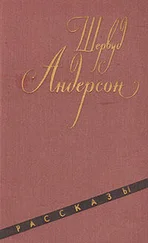

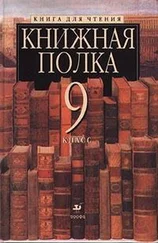
![Пол Андерсон - Зовите меня Джо [сборник litres]](/books/387816/pol-anderson-zovite-menya-dzho-sbornik-litres-thumb.webp)
![Шервуд Андерсон - Уайнсбург, Огайо. Рассказы [сборник litres]](/books/400245/shervud-anderson-uajnsburg-ogajo-rasskazy-sborni-thumb.webp)
![Шамиль Идиатуллин - Всё как у людей [сборник litres]](/books/431943/shamil-idiatullin-vse-kak-u-lyudej-sbornik-litres-thumb.webp)
