– Не божись, Мейжис, ты неискренен, когда говоришь это. Ты хотел, чтобы тебя боялись.
Ты уловил сомнение в моем голосе, отец. И все же нет, мне это никогда не нравилось. Страх – удобная вещь, тебе легче жить, когда тебя боятся, но не более того. Я никогда не желал этого. Это правда.
Вот оно как, тятенька. Потом они ушли, их приютили соседи. На время, пока не обустроятся. Мне, конечно, негоже было идти с ними. Я остался стоять на пепелище. Ждал. Через какое-то время Регина пришла. И, скажу тебе чистую правду, она меня все так же любила.
«Отец пошел за жандармами, чтобы тебя взяли», – сказала она.
Теперь моя любовь сбросила с себя все оковы. Ничто более ее не стесняло. Я был совершенно свободен. Регина поняла это, а ведь она была всего лишь маленькой девочкой.
«Ах, Косматик, – повторяла она, – ох, Косматик».
А я рычал и скрежетал зубами, как волк, тятенька. Я был как перегревшаяся печь, думал, у меня грудь разорвется и легкие с кишками разлетятся во все стороны, как искры, не останется ничего. Мне казалось, что я могу посадить свою маленькую девочку на ладонь и она прекрасно там уместится.
Я стоял рядом с ней, своим боком чувствуя ее бок, и мне не хотелось бежать от нее и прятаться в себе. Я весь дрожал.
– Ты был тогда счастлив, Мейжис, дитятко ты мое.
Нет, что ты, об этом не могло быть и речи. Я страдал, дедуль. И если это и есть счастье, то что тогда несчастье? Должно лишь удивляться, почему все так стремятся к этим мучениям. Если у нас останется время, ты объяснишь мне это.
Регина гладила мне спину и плечи и нашептывала странные свои словечки, а они вызывали у меня все большую дрожь, все большую боль, заставлявшую меня рычать. Я сказал: «Прости меня, Регина. Теперь ты все знаешь».
Но ей до этого никакого дела не было, она меня не слышала. Бормотала свой любовный розарий, изредка вплетая в него «ах, Косматик». И тогда я почувствовал к ней большую нежность. Впервые обнял ее и, наклонившись, поцеловал. Это было единственное такое целование. Коснулся губами ее лба, ровно так же как ты, дедушка, в тот раз коснулся моего. Ее кожа горела.
«Ступай домой, Регина, – сказал я, не помня, что спалил ее дом, – ты больна».
Зачем он мне все это рассказывает? Возможно, ему не часто представляется случай продемонстрировать свою образованность. Пускай.
– В начале девятнадцатого века по проекту французского архитектора тут были построены дворец с башней, так называемым бельведером.
Голос судьи поначалу был робок, он не знал, не надоедает ли мне своей лекцией, но понемногу осмелел.
– В тысяча восемьсот восьмидесятом году дворец был перестроен. Внутри он украшен розетками, плафонами, кронштейнами.
Повествует судья толково, ничего не скажешь, но я никак не могу отделаться от впечатления, что он заучил все это из какой-то книги. Бог с ним. Меня не интересуют здания и история.
Солдаты, прячась за деревьями и кустами, понемногу, не спеша поднимаются на берег и начинают окружать дворец. Еще перед выступлением из Серяджюса я коротко и ясно объяснил каждому из них, что он должен делать, и теперь не могу на них нарадоваться, как на свое удавшееся произведение. От вялости, стеснявшей их движения, когда они привязывали коней к необструганным сосновым бревнам, не осталось ни следа. Указаниям они следовали точно, словно внутрь каждого был впаян часовой механизм, который перед запуском хорошо прочистили и крепко привинтили все колесики. Движения быстры, бодры, безмолвны, уверенны. Шаги беззвучны. Превосходнейший военный механизм. Вот каким методом следует расправляться со всякими стихийными безобразиями. Система и точность – две лучшие в мире вещи.
Слышу рядом с собой участившееся от быстрой ходьбы и волнения дыхание мирового судьи и с сожалением думаю, что рядом нет сына. Чувствую, что за последние два дня, и в особенности этим утром, Анус стал для меня своеобразным символом, какой-то негативной аллегорией, материализовавшейся идеей. Он воплотил всю ту часть мира, которая не является мной, воплотил то, что отрицает мой разум и что неизменно, всегда будет отрицать любой разум. Ребенок этот, сам того не подозревая, представляет в моем сознании мир ощущений, он – дипломат для особых поручений этого мира. Наш век достаточно цивилизован, чтобы мы сумели по достоинству оценить разум и сделать его единственной ценностью. За спиною у нас тысячелетний опыт самосовершенствования, может быть, пора сказать «нет» чувственности, в каком бы обличье она ни представала? Мы родились в век разума, так будем же разумны. Вот вам мое мнение, и я от него не отступлюсь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






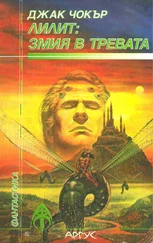
![Саулюс Шальтянис - Ореховый хлеб [сборник]](/books/436456/saulyus-shaltyanis-orehovyj-hleb-sbornik-thumb.webp)
