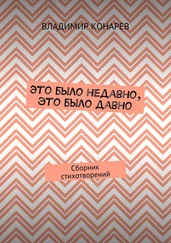— Я думал, не Санька ли?
— Нет, он спит.
— Чудно дело, право што.
— Налей, Юрий, рюмку — хороша штучка.
— Какая штучка — просто сом кричит.
— А ведь это верно, может быть, что большой. Коля прав — просто сом хохочет после грозы, они грозу любят.
— Мне тоже кажется, что Николай говорит верно, — сказал Юрий.
— Да, конечно, верно. Я ведь учил естественные истории, там написано: «сомовий смех после грозы», и больше ничего.
— Что ж ты раньше не говорил, если знаешь? — успокаивался Василий Сергеевич.
— Вам говори не говори, все равно, а вот теперь видите — кто прав.
«Молодец Коля», — думал я.
— Я тоже помню, что-то читал, — сказал Юрий, — только, кажется, про белугу.
— Ну, здоров, должно быть, дядя, вот попал бы.
— Сомы есть здесь большие — вот на Голубихе сома поймали, осемь пудов, пачка . Он и орет — ясно.
«Хо, хо, хо, хо», — раздалось вдали.
Василий Сергеевич опять насторожился.
— Это ясно, это на шахте, на Остеевской, другой орет.
— Верно, Костя, они как петухи перекликаются.
— А это, может быть, прав Николай, — сказал Юрий.
— Выпей-ка, Василий Сергеич. Ишь, сердешный. Перепугался индо, вспотел весь.
— Вспотеешь тут. Никон Осипович, что такое?
— Да неведомо дело, я сам дивлюсь.
Вася с горя и страха усиленно пил рюмку за рюмкой.
— Константин Алексеевич, оно жутковато, но интересно.
— Какой же, Вася, интерес? Ничего интересного нет, — говорил Коля Куров.
— Интересу тут мало, мы жители здесь, а этого [дела] впервые, смеху-то. Лешим гогочет, думаю, нарочно пугает кто.
— Я то же говорю. Чего смешного тут? Говорите, сом кричит, а отчего в саженке-то твой, поймали которого, молчит?
— Сам посуди, Вася. Как ему кричать, он боится. Крикнет, а его возьмут и жарить потащат.
— Позвольте, ведь сом не один в омуте. Они бы вместе, все бы хором. [Юрий, право, нет, это не сом.]
— Это самый старый орет, — успокаивал Иван Васильевич.
— Я уж охтеологию-то знаю назубок, я учил ботанику.
— Севрюжку по-русски, стерлядку кольчиком хорошо, — сказал Юрий. — Навага тоже.
— А ты вот, охтеолог карасевый, скажи, где навага ловится?
— Навага? Постой, постой, где она ловится? [В реке, кажется.
— А сардинки где?
— Ну, конечно, в Сардинии.
— А балык?
— На Волге. Я ведь не учил, где ловится, — это к охтеологии не относится.
— А из чего делается…]
— Где же навага, в самом деле, ловится?
— А копчушки?
Коля растерялся и глядел виновато.
— А миноги?
Стол вытащили. Иван Васильевич:
— Не уходите, давайте тут, вместе. Пойдем, Юрий Сергеич, к нам в дом, в сарае что.
Мы протянулись на сене в палатке, фонарь висел над нами. Василий Сергеевич лежал посередке, вздыхал, засмеялся и сказал:
— Ну и глухие же здесь места. [Как подумаешь,] что делается.
— Что такое?
— Да ведь попугивает. Завсегда в эдаких местах удивительного нет — глушь.
— Явный факт, — сказал я.
— Я знаю, я, брат, кончил естественные науки, я и не боюсь ничего.
— Ехать собрался Василий Сергеич, а ведь в лесу-то, обрывом-то ехать, мне не мене вашего страшно, там такой хозяин.
— Какой хозяин, там тоже хозяин?
— Нет, Василий Сергеич, с обрыва, говорю, [не приведи], да в нем костей не собрать, да и лесом-то, верно, жутко, чего-ничего, а есть. Вот позапрошло <���лето> я от Киститина Алексеича с Охотина иду Ратухином, мост перешел, гляжу, идет кто-то. А пора была осень, час ночи, он стал, и я. Я думаю: «Кому тут идти?» Тропой я иду короче. Я шибко оробел. Он стоит, и я стою, ни гу-гу. «Что, — думаю, — ночевать, что ли». Слышу, он тихонько пошел взад. Я постоял, потом я обгляделся, ольшину выбрал, стал выдирать-то поздорове — у меня ведь нет ничего — она затрещала. Слышу, он бежит дале. Ну, я пошел. Иду в горку, там у деревни, у терочной Глушковской, стоит человек. Я ближе — сторож. Он из Охотина носил дежурство. Идет. «Ах, — говорит, — Иван Васильич, — ты уж не говори Василию Сергеичу, а то он сюда и не приедет».
* * *
Какая таинственность ночи, и в душе какая-то мечта тоскует и ждет какой-то далеко ожидаемой радости, чего-то другого, что должно было бы быть, но не будет. В чем это там, спрятанное глубоко, эта печальная надежда, где она? Далеко, далеко стелются ее лучи от меня туда, — и вот звезда передо мной впереди яркая, мерцает — тайно, а над ней — темный таинственный край нашей доли лежит пеленой, и там, за ним, — что-то, куда я шел и чего искал, там блестит Париж, и я — какие-то стремления, и спор, и надежды, труд, медали, радости, успехи. И зачем? Небо, и опять под чудеснейшей звездой та темно-бурая даль, край земли, а там опять [жажда увидеть]. Там — там, уйдет печаль, там светит — что? А кругом поля, и во мраке заснувшие леса, и даль в таинственной тишине.
Читать дальше