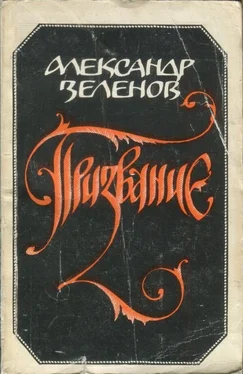Долго тащились с поклажей по городским пыльным улицам. Выбрели на окраину, к низеньким деревянным домишкам, за которыми по пологим холмам лиловым удавом вилась, убегая за горизонт, каменная хребтина шоссе. Облитое вечереющим солнцем, убегало оно в дремотную марь, в глухие углы, далекие от проезжих дорог и судоходных рек, туда, где затерялось таинственное село, о котором в старинных книгах писалось, что была в нем церковь святаго Илии да два погоста церковных, и церковь Воздвижения честного животворящаго креста, а в церкви и образа, и свечи, и колокола; где некогда писали образа во всех домах и не писал их только мельник, и то потому, что сделался мельником; ремесел помимо иконописи не знают никаких, нету у них ни кузнеца, ни швеца, ни сапожника …
И еще об этом селе говорилось, что в черные годы мужички его брали в руки соху и пахали землю, а в годы счастливые сменяли соху на тонкую беличью кисть и теми же корявыми крестьянскими пальцами сотворяли великое чудо — писали тончайшие лаковые миниатюры.
Торчали втроем на обочине долго, поджидая машину-попутку. Протащилась мимо тощая лошаденка с телегой, гремя о булыжник ошиненными колесами. Прошла молодая брюхатая баба с животом, налезавшим ей на нос, глянула на них из-под руки… Солнце уже свернуло с зенита, нехотя опускалось в закатную золотую пыль, напоминая цветом своим апельсин-королек, а перед глазами все те же домишки в два-три окошка, с чахлыми палисадничками. Глянешь вперед — там упирается в горизонт, в золотые закатные облака пустое шоссе. А за спиной пыльный город с высокой соборною колокольней, шпиль которой с облезлою позолотой тоненько голубеет в закатной пыли.
Хоть бы пятнышко на шоссе показалось какое, похожее на машину! Можно бы попытаться пешком, да вот Колька… Тридцать верст не осилит с его хромотой.
Выручил их веселый дедок. Тарахтел на телеге мимо, свесив с полка обутые в лапти ноги, весь заросший до глаз русой курчавейшей бородой, из которой ломтями арбуза краснели свежие губы. Остановил кобыленку: «Прррр-р!..» — и, сияя из-под лохматых бровей родниковыми голубыми глазами, неожиданно тонким бабьим голосом крикнул:
— Докудова ехать, сынки?!
Услышав, что ждут машину, похмыкал:
— Эдак-ту вы просидите, ёлоха-воха, до морковкина заговенья… — И кивнул на пустую телегу: — Ташшыте сюды ваши вешшы скорей!
Славик с Колькой — бегом. Сашка же не торопился, сначала узнал, по скольку дедок с них запросит. Тот запросил по пятерке, что было явно не по карману. Мать с трудом наскребла на дорогу тридцать рублей. Одиннадцать стоил билет на поезд, да столько же надо было оставить доехать обратно (вдруг снова провалятся на экзаменах!). Оставаться с тремя рублями в кармане совсем не светило. Кольке вон матка, даром что неродная, и то целых сорок рублей на дорогу дала.
Сговорились по трешке, но дед согласился за малую цену такую только лишь кладь их везти.
— Вот так-то, ёлоха-воха!..
Чмыкнул, дернул вожжами, и потащились под грохот телеги в тоскливую неизвестность со скоростью два километра в час.
Телега была полна пыльных пустых мешков. Дед ехал с базара — картошку там продавал — и был заметно навеселе. Из курчавой его бороды краснобокими яблоками выпирали крутые щеки, пуговка носа была словно киноварью покрашена.
Услышав, что родом дед из «села-академии», наперебой принялись расспрашивать, какое оно из себя, это село, которое даже в Америке знают, как выглядят знаменитейшие его мастера…
Сашке это село представлялось сказкой. Среди полей и лесов, на зеленом холме — островерхие терема с резными узорчатыми крылечками. На вершине холма — белокаменный, облитый солнцем кремль с колокольней высокой внутри. Рядом с ним — академия, вся из мрамора, с мраморными колоннами, подпирающими небеса. И сидят в ней, рисуют миниатюры художники, похожие и на апостолов, и на мужиков…
Об этом и слышать хотелось. А дед понес околесицу. Про какого-то пастуха, по прозванию Балхон, с саженной трубой вместо рожка, с бородой до пупа, в сажень ростом. Выйдет утром Балхон на середку села, как учнет трубить в ту трубу — на десять верст по округе слышно. Сам земский начальник, бывало, лишался сна, грозил пастуху арестом, в кутузку сажал не раз, да бабы за пастуха заступались.
— Семья у ёво большушша была, про их даже песню такую склали:
Балхон баню продает —
Балхониха не дает,
Балхонята верешшат,
Баню под гору ташшат…
Читать дальше