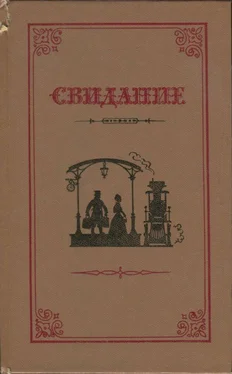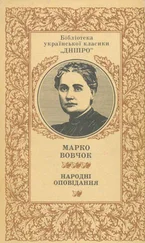— Бог милостив-с. Приятного сна!
Сон, конечно, мог быть очень приятен, но он долго не приходил. Хозяйственные заботы смутили Александру Сергеевну и перепутались с мечтами. Впрочем, одно как-то дополняло другое, почти украшало.
«Человек никогда не знает, что с ним будет. Ах, какая правда! Вчера засыпала, думала: все кончено, все в жизни, и вдруг откуда-то издалека является. Ну, право, премилый. Ну, ей-богу, они все здесь взбесятся, когда это случится! Не выпущу его ни за что. Писать ему буду. «Бугуруслан, станция…» — она вскочила, забыв туфли, отыскала где-то карандаш и записала адрес наверху листа газеты. — Нечего откладывать до Петербурга. Он еще там завертится, и ищи его. Там, конечно, обошлось бы дешевле, но ведь один раз в жизни человеку бывает удача. Здесь, en grand [181] с размахом (франц.) .
. Нельзя иначе: век свой жила порядочно. И пускай видят, за кого выходит Табаева. Уж надеюсь, можно в люди показать! А повенчаться там за глазами — еще скажут, поймала какого-нибудь за свои денежки. Мои деньги при мне, при мне и останутся. Это — уж мое дело. В своем приходе. Церковь большая. В августе для иллюминации ночи хороши».
Табаева соображала свой наряд. «Fleurs d‘oranges [182] Померанцевые цветы — принадлежность наряда невесты (франц.) .
несомненно и вуаль. Но серое серебристое или, уж так и быть, совсем белое?»
_____
Анна Васильевна заснула, думая тоже о свадьбе, она вспоминала свою.
Молодых друзей не стало, не было даже вестей о них. Табаев остался один, как в первое время своего возвращения с войны. Но это было далеко не одно и то же.
Тогда, оживленный, довольный, он легко сходился с людьми и его тоже не чуждались. Он заводил знакомства, искал деятельности, проповедовал для деятельности, советовал, помогал, не унывал при ошибках, тратил деньги, отдавался весь «пользе общей» — как тогда понимало ее большинство честных людей, схватившись за дело радостно, хотя непривычно. Табаев знал, что ему сочувствуют, что поддержка сильна. Это кончилось вдруг, слишком неожиданно и резко. Уцелеть возбуждению было невозможно; слабый характер сказался, когда оно прошло. В тридцать четыре года этот красивый молодец, «широкая натура», был сломан даже физически. Те, кто говорил про него, что он фразирует и позирует, поверили его искренности, когда он слег в горячке. Зато, разумеется, нашлись другие, которые назвали его трусом. Дураком стали считать все. Больнее всего было, когда те, что, казалось, были с ним заодно, кто из страха, кто не трудясь подумать, кто рассчитав выгоду — отступались, отходили прочь, смотрели на него, как на мертвого.
Так прошло несколько лет. Табаев не выезжал из деревни. Воротам не для кого было отворяться, их заносило сугробами. Дорожки сада зарастали кустами; там гуляла только молодая женщина со своей красавицей девочкой. Они одни все красили, они одни утешали.
С того дня, как случилось «несчастье», Табаев не видал слез Анны Васильевны. «Сохрани бог его еще огорчить», — решила она. Это была вечная затаенность, вечное притворство спокойствия, твердость, кроткая ясность, тихо ласкающая, как вешнее тепло. Это было терпение, но полное достоинства и силы; оно образумливало и заставляло человека помнить свое собственное достоинство. Каким «секретом» достигла этого простая, неученая женщина? Она любила его, она поняла его душу, его несчастье; он стал ей еще милее именно за такое несчастье.
Измученный, оставленный, запертый в деревне, лишенный общества, деятельности и значения, скучающий, больной — Табаев не огрубел, не потерялся, единственно благодаря ее любви. Неутомимая женщина хлопотала, хозяйничала, учила дочь всему, что знала, чему выучили ее студенты, училась сама, читала вслух целыми днями, пристрастилась к цветам и пристрастила Табаева, шуткой находила ему занятия. Уходя копаться в цветнике, она оставляла ему девочку и книгу; занимаясь с Сашей, Табаев слышал, как распевала Анна Васильевна. Это было счастье тюрьмы, но все-таки это было счастье.
— Саше десятый год; нам одним не воспитать ее, — сказал он однажды.
— Я это сейчас думала, — ответила Анна Васильевна.
Они часто так встречались мыслью.
— Сюда к нам никто не пойдет, а гувернантки — вздор, — продолжал он.
— Я то же думала. Ее надо отдать.
Анна Васильевна не пугалась ни разлуки, ни пустоты. В свое короткое студенчество Табаев знал в Москве один пансион; старуха-начальница уже сдала его своей дочери, но жила в заведении и помнила Табаева. Они списались. Табаев не мог ехать сам; Анна Васильевна отвезла Сашу.
Читать дальше