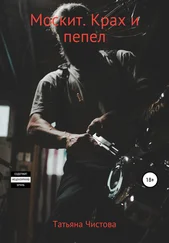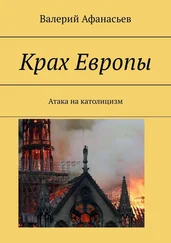А когда заснул, показалось, что в ту же минуту его разбудил телефонный звонок. Администратор гостиницы, по Костиной просьбе, звонила всем, кто должен был ехать в аэропорт. Выпить бы кофе! Но где его в гостинице возьмешь в три часа ночи? Может, удастся в аэропорту… Ну, в путь! Взял чемодан, коробку, которую торжественно, точно награду, вручил ему Костя, и пошел, не ожидая соседей, к лифту. В вестибюле уже стояли его спутники. Поставил чемодан. С коробкой он не должен расставаться до самого Нью-Йорка. Арсений не любил брать с собой много вещей, всегда ездил с одним чемоданом, чтобы свободными были руки. Вещь, которую все время надо держать в руках, раздражала его, как надоедливый комар, который ночью, звеня возле уха, мешает уснуть.
Дул холодный пронзительный ветер, и, пока уложили вещи в небольшой автобус, пока уселись, Арсений промерз основательно, так как был в легком плаще. Знал: в Нью-Йорке сентябрь и октябрь теплые. Двинулись. Автобус был старый, в нем все так гремело, что Арсению казалось: вот-вот он развалится и полетит в кювет. Но автобус не только не развалился, а мчался со скоростью сто километров — ночные улицы Москвы были свободны. Когда выехали на шоссе, ведущее в аэропорт, водитель начал выжимать из машины всю скорость, на которую она была способна.
Когда он вернется в Москву — а это будет середина ноября, — здесь будет лежать снег. Но это еще так далеко, что не хочется думать о холоде. Вот уже и огни аэропорта…
В Шереметьево-2, как и во всех международных аэропортах, посадка в самолет была прямая, из помещения вокзала. Арсений занял свое место.
Когда самолет вырулил, оглушительно свистя турбинами, на бетонную полосу, Арсений увидел в иллюминаторе: круглое солнце без единого луча стояло над горизонтом. Самолет остановился, турбины завыли так, что казалось — они не выдержат напряжения и взорвутся. Но они выдержали, самолет тронулся с места, и Арсений почувствовал, как его спиной прижало к сиденью. Прошло еще несколько секунд, стук колес внезапно оборвался, турбины заработали с каким-то новым, приглушенным гулом.
Теперь колеса самолета снова застучат по бетонной полосе в Берлине.
Выставив коробку из-под ног в проход, Арсений сел поудобнее и сразу задремал: так устал за два бес покойных дня в гостинице и за эту бессонную ночь. Состояние было такое, когда воспоминания, проплывающие перед мысленным взором, как бы переплетаются со сновидениями.
Вот они с Линой идут по сельской улице, она смотрит ему в глаза, говорит: «Я буду ждать тебя. Но я знаю, ты не оставишь ее».
А вот будто Вита встречает его в Нью-Йорке. Радостная, сияющая, берет под руку, говорит: «Я знала, что ты ко мне приедешь». Ему не хочется идти туда, куда она ведет его, но он покорно шагает за нею, ведь она так ласково поглядывает на него своими серыми глазами. Они уже далеко отходят от аэропорта, когда он вспоминает: забыл в самолете коробку! Арсения охватывает такой ужас, что он просыпается, щупает рукой место, где стоит коробка. Здесь! Молодая, немного похожая на Виту стюардесса — такие же серые глаза — подходит к нему с подносом, на котором стоят стаканчики с минеральной водой и лимонадом. Вовремя проснулся, очень хотелось пить. Взял стаканчик с минеральной водой, жадно выпил, взглянул на часы. О, еще только сорок минут в воздухе. Где же они? Над Польшей? В иллюминатор видны были только сплошные горы белых как снег облаков, ярко освещенных холодным солнцем. Сколько за бортом градусов? Должно быть, ниже пятидесяти? А в самолете не только тепло, но и душно, хотя включены кондиционеры. Неужели Лина думала так, как ему приснилось? «Ты не оставишь ее», — мысленно повторил Арсений. Если Вита в Нью-Йорке, то, возможно, и захочет с ним встретиться. А захочет ли он ее видеть? Ясного ответа снова не было.
Сон, навеявший целый рой мыслей и воспоминаний, и выпитая холодная вода разогнали дремоту, и Арсений, чтобы чем-то заняться, взял буклет из сетки сиденья. Развернул, увидел карту ГДР, реки Одер, Шпрее, на которых отец — сержант-сапер — возводил переправы под адским огнем фашистов. На берегу Шпрее, недалеко от города Фюрстенвальде (на подступах к Берлину), был тяжело ранен. От родного села, откуда начались фронтовые дороги отца, он шел сюда, наводя переправы через реки, три с половиной года. «И если бы не эта чертова Шпрее, — говорил он, — увидел бы и я Берлин, где так хотелось побывать!» Именно потому, что отец, преодолевая огонь фашистов, навел через эти реки мосты, Арсений не за три с половиной года, а за два часа одолеет это расстояние. Отсюда, с берегов Шпрее, отец принес в ногах осколки, которые и до сих пор лежат на Арсениевом столе в спичечной коробке, куда складывал их отец, когда они, по его словам, «вылезали из тела». В полевом госпитале отцу хотели ампутировать левую ногу, боясь, что он умрет от гангрены. Но как его ни уговаривали, он не согласился. Выздоровел, но ногу всю жизнь — синюю, местами даже черную — таскал, как сам говорил, «точно гирю»: такая она была тяжелая, набитая осколками. Нога преждевременно и положила его в могилу. Возникли перед мысленным взором похороны отца. Все село — взрослые и дети — провожало его в последний путь. На кладбище речей не произносили, женщины плакали, дети, испуганно моргая глазами, тоже всхлипывали, проникаясь горем матерей, мужчины сурово молчали. Мама, вся в черном, присела над холмиком глины, вынутой из могилы, у отцовского изголовья, положила одну руку на его сложенные на груди костлявые руки, а другой вытирала слезы совсем уже мокрым платком. Плакал и Арсений. Не теми слезами, какими в детстве выливал боль из души, а теми, которые наполняли душу невыносимой болью. После тех слез Арсений воспринимал мир уже не таким, как до отцовской смерти.
Читать дальше
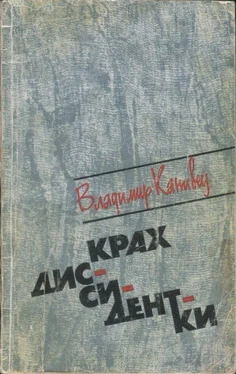

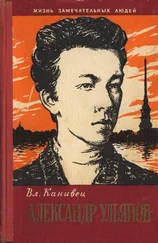

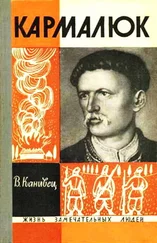


![Юрий Уленгов - Крах Элизиума [СИ]](/books/432413/yurij-ulengov-krah-eliziuma-si-thumb.webp)
![Ольга Крах - Говори с мудаком и победи его. Искусство манипуляции и общения с людьми [litres]](/books/433549/olga-krah-govori-s-mudakom-i-pobedi-ego-iskusstv-thumb.webp)