Она обернулась:
– Собственно, сколько же времени мы не виделись?
– Сто лет. Были тогда детьми, и войны не было.
– А теперь?
– Теперь мы старики, но без опыта, который дает старость. Старики, циники, без веры, порой печальные. Не часто печальные.
Она взглянула на него:
– Правда?
– Нет. А что правда? Ты знаешь?
Элизабет покачала головой. Потом спросила:
– А что-нибудь всегда должно быть правдой?
– Нет, наверно. Почему?
– Не знаю. Хотя, может статься, войн было бы меньше, если бы каждый не норовил непременно навязать другим свою правду.
Гребер улыбнулся. Странно слышать от нее такие слова.
– Терпимость, – сказал он. – Вот чего нам недостает, да?
Элизабет кивнула. Он взял бокалы, наполнил до краев.
– Давай выпьем за это. Крайсляйтер, который подарил мне бутылку, наверняка не рассчитывал на такое. Но именно поэтому. – Он осушил свой бокал. – Хочешь еще?
Элизабет вздрогнула. Потом сказала:
– Да.
Он налил, поставил бутылку на стол. Водка была крепкая, прозрачная, чистая. Элизабет отставила свой бокал.
– Идем. Покажу тебе образец терпимости. – Она провела его по коридору, толкнула дверь. – Госпожа Лизер в спешке забыла запереть. Посмотри на ее комнату. Это не обман доверия. В моей она рыщет постоянно, когда меня нет.
Часть комнаты была обставлена совершенно нормально. Но на стене против окна висел в огромной массивной раме большой живописный портрет Гитлера, украшенный еловыми лапами и дубовыми венками. На столике под ним, на большом флаге со свастикой, лежало роскошное издание «Майн кампф», в черном кожаном переплете с тисненой золотой свастикой. По обе стороны серебряные канделябры со свечами, а рядом фотографии фюрера – одна с овчаркой, в Берхтесгадене, вторая с одетым в белое ребенком, вручающим ему цветы. И, наконец, почетные кортики и партийные значки.
Гребер не слишком удивился. Он не раз видел подобное. Культ диктатора легко превращался в религию.
– Здесь она и пишет свои доносы? – спросил он.
– Нет, вон там, за письменным столом моего отца.
Гребер взглянул на письменный стол. Старомодный, с надстройкой и рольшторкой.
– Он всегда на замке, – сказала Элизабет. – Не заглянешь. Я много раз пробовала.
– Она донесла на твоего отца?
– Точно не знаю. Его забрали, и больше я ничего о нем не слышала. Она уже тогда жила здесь со своим ребенком. В одной комнате. Когда отца забрали, она заняла и те две, что принадлежали ему.
Гребер обернулся.
– Думаешь, она могла бы ради этого настрочить донос?
– Почему бы нет? Иногда причин бывает еще меньше.
– Конечно. Но, судя по этому алтарю, она самая настоящая фанатичка.
– Эрнст, – с горечью сказала Элизабет. – Ты вправду считаешь, что фанатизм не может идти рука об руку с личной выгодой?
– Может. И часто. Странно, что об этом снова и снова забываешь! Иные банальности, которые когда-то заучил, позднее всегда бездумно повторяешь. Мир не делится на ящички с этикетками. А человек тем паче. Вероятно, эта кобра любит своего ребенка, своего мужа, цветы и благородные изыски бытия. Она знала о твоем отце что-то такое, о чем могла донести, или все выдумала?
– Отец был добрый, неосторожный и, наверно, давно на подозрении. Не каждый смолчит, если ежедневно слышит в собственной квартире партийные речи.
– Тебе известно, что он мог сказать?
Элизабет пожала плечами.
– Он уже не верил, что Германия выиграет войну.
– Многие уже не верят.
– Ты тоже?
– Да, я тоже. А теперь идем отсюда! Не то эта стерва, чего доброго, тебя застукает, и как знать, что она тогда сделает!
Элизабет бегло усмехнулась:
– Не застукает. Я заперла входную дверь на задвижку. Не войдешь.
Она подошла к двери, отодвинула задвижку. Слава богу, подумал Гребер. Если она и мученица, то, по крайней мере, осторожная и не страдающая избытком угрызений совести.
– Здесь пахнет, как на кладбище, – сказал он. – Должно быть, из-за чертовых увядших дубовых листьев. Идем, выпьем по глоточку.
Он опять наполнил бокалы до краев.
– Теперь я знаю, почему мы чувствуем себя стариками. Потому что видели чересчур много мерзости. И заварили эту мерзость люди старше нас, которым бы следовало быть умнее.
– Я себя старухой не чувствую, – возразила Элизабет.
Гребер посмотрел на нее. Да уж, никак не старуха.
– Вот и радуйся, – ответил он.
– Я чувствую себя узницей, – сказала она. – А это еще хуже, чем старухой.
Гребер сел в одно из бидермейеровских кресел.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Эрих Ремарк Время жить и время умирать [litres] обложка книги](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-cover.webp)


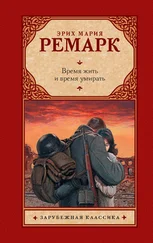
![Макс Мах - Эпоха мечей - Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/393605/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Три товарища [litres]](/books/395705/erih-remark-tri-tovaricha-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Ночь в Лиссабоне [litres]](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - На Западном фронте без перемен [litres]](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-thumb.webp)
![Ян Валетов - Не время умирать [litres]](/books/438191/yan-valetov-ne-vremya-umirat-litres-thumb.webp)

