– У вас можно поужинать? – спросил он.
Женщина помедлила.
– У меня есть карточки, – поспешно добавил он. – Было бы так здорово поужинать здесь. Времени в обрез, через день-другой я возвращаюсь на фронт. Ужин на двоих, для меня и моей жены. Карточки есть на обоих. Если хотите, могу принести консервы на обмен.
– У нас только чечевичный суп. Собственно, мы уже не подаем еду.
– Чечевичный суп? Замечательно. Сто лет не едал.
Женщина улыбнулась. Улыбка была спокойная, словно возникшая сама собой.
– Если вам этого достаточно, приходите. Можно посидеть в саду, если угодно. Или здесь, если станет холодновато.
– В саду. Пока что светло. К восьми можно прийти?
– С чечевичным супом такая точность не требуется. Приходите, когда вам удобно.
Под табличкой на доме родителей торчало письмо. От его матери. Переслали с фронта. Гребер вскрыл конверт. Письмо было короткое. Мать писала, что на следующий день они с отцом уезжают из города с одним из эшелонов. Куда – им пока неизвестно. Пусть он не беспокоится. Это просто на всякий случай.
Он посмотрел на дату. Письмо было написано за неделю до его отпуска. О налете там не упоминалось, но мать соблюдала осторожность. Опасаясь цензуры. Маловероятно, чтобы дом разбомбили прямо в последний вечер. Наверно, это случилось раньше, иначе они бы не попали в эшелон.
Медленно он сложил листок и сунул в карман. Значит, родители живы. Теперь это удостоверено, насколько возможно. Он огляделся по сторонам. Прямо перед ним как бы ушла под землю волнистая стеклянная стена, и Хакенштрассе вдруг стала похожа на все прочие разбомбленные улицы. Ужас и мука, витавшие вокруг дома номер восемнадцать, беззвучно растаяли. Остались только щебень да обломки, как всюду. Он глубоко вздохнул. Испытывая не радость, а огромное облегчение. Груз, тяготивший его всегда и везде, вдруг свалился с плеч. Он не думал о том, что во время отпуска, вероятно, не увидит родителей, эта мысль давно утонула в долгой неопределенности. Достаточно, что они живы. Живы – тем самым что-то закончилось, и он был свободен.
При последнем налете здесь упало еще несколько бомб. Дом, от которого оставался один фасад, окончательно рухнул. Дверь с руинной газетой стояла теперь чуть подальше между развалинами. Гребер как раз вспомнил про сумасшедшего дружинника и в ту же секунду увидел его: тот приближался с другого конца улицы.
– Солдат, – сказал дружинник. – Все еще здесь!
– Да. Вы тоже, как я погляжу.
– Нашли письмо?
– Нашел.
– Вчера после обеда пришло. Можно теперь убрать с двери вашу записку? Нам срочно требуется место. Есть целых пять заявок.
– Пока нет, – сказал Гребер. – Через несколько дней.
– Пора, – сказал дружинник резко и строго, будто школьный учитель, выговаривающий непослушному ребенку. – Мы и так долго ждали.
– Вы редактор этой газеты?
– Дружинник – мастер на все руки. Следит за порядком. Тут у одной вдовы трое детей пропали после последней бомбежки. Нужно место для объявления.
– Тогда снимайте мое. Похоже, моя почта все равно приходит вон в те развалины.
Дружинник отцепил Греберову записку от двери, отдал ему. Гребер хотел ее порвать. Но дружинник перехватил его руку.
– Вы с ума сошли, солдат? Такое рвать нельзя. Иначе порвешь свой шанс. Однажды спасенный всегда спасен, пока цела записка. Вы и впрямь начинающий!
– Да, – сказал Гребер, сложил бумажку, сунул в карман. – И хотел бы им оставаться, по мере возможности. Где вы теперь живете?
– Пришлось переехать. Нашел вполне удобную берлогу в подвале. Подселился к мышиному семейству. Очень даже интересно.
Гребер посмотрел на него. Худое лицо было совершенно бесстрастно.
– Я намерен создать объединение, – объявил дружинник. – Собрать людей, чьи родные остались под завалами. Нам надо держаться вместе, иначе город палец о палец не ударит. Каждое место, где лежат засыпанные, по меньшей мере должны благословить священники, чтобы земля была освященной. Понимаете?
– Да, понимаю.
– Вот и хорошо. А некоторые говорят, это глупость. Что ж, вам в объединение вступать незачем. У вас теперь есть это чертово письмо.
Бесстрастная маска на худом лице вдруг распалась. На нем проступило выражение безудержной боли и ярости. Дружинник резко отвернулся и заковылял прочь. Гребер проводил его взглядом. Потом пошел дальше. Решил не говорить Элизабет, что его родители живы.
В одиночестве она шла через площадь перед фабрикой. Казалась маленькой и совершенно беззащитной. В сумерках площадь выглядела просторнее обычного, а низкие постройки за нею – еще более унылыми и убогими.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Эрих Ремарк Время жить и время умирать [litres] обложка книги](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-cover.webp)


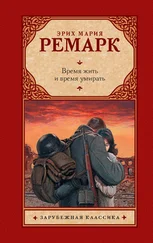
![Макс Мах - Эпоха мечей - Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/393605/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Три товарища [litres]](/books/395705/erih-remark-tri-tovaricha-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Ночь в Лиссабоне [litres]](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - На Западном фронте без перемен [litres]](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-thumb.webp)
![Ян Валетов - Не время умирать [litres]](/books/438191/yan-valetov-ne-vremya-umirat-litres-thumb.webp)

