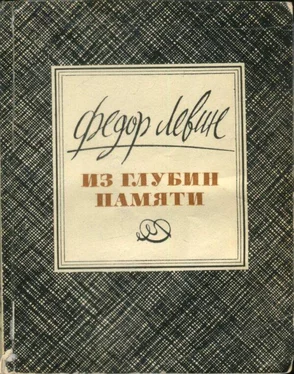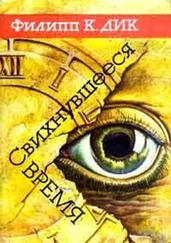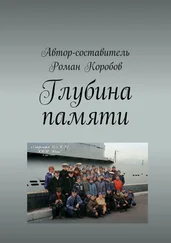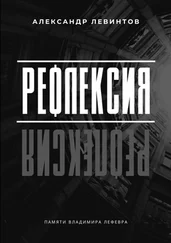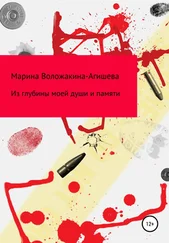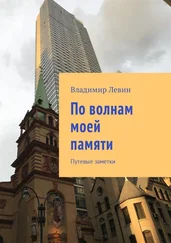Со мной познакомился и стал частенько приходить ко мне домой Лаврентий Алексеевич Моисеев. Еще недавно он был директором Херсонесского музея, но, так как у него не было ученого звания, Моисеева сменили. На его место прислали из Москвы профессора Гриневича. Моисеев преподавал, помнится, в школе. Он не только превосходно знал историю Крыма, Херсонеса, Севастополя, но энтузиастически пропагандировал идею возрождения Гераклейского полуострова, очерченного Балаклавой, Севастополем и Херсонесом. Этот, в двадцатые годы пустынный и мало возделываемый, район в древности, как свидетельствовали история и археология, был сплошным цветущим садом и виноградником. Сохранились следы древнего акведука, особые каменные чаши, в которых херсонесцы осаждали росу, копили дождевую воду.
Моисеев написал специальную работу о Гераклейском полуострове, на землях которого херсонесцы возделывали злаки и фрукты, виноград и овощи. Статья была опубликована в каком-то ученом журнале, и Лаврентий Алексеевич очень ею гордился и подарил мне ее оттиск с сердечной надписью.
Однажды меня позвал к себе секретарь райкома, им был тогда, помнится, Вашкевич.
— В Севастополь приехал из Чехословакии на лечение тамошний коммунист, редактор газеты «Руде право». Его к нам направили из ЦК партии. Фамилия — Фридрих. Он просил райком познакомить его с каким-либо образованным товарищем, чтобы он мог с этим человеком общаться, расспрашивать его, практиковаться попутно в русском языке. Мы решили, что этим товарищем будешь ты. Мы тебя к нему прикрепляем, считай это партийным поручением.
Так познакомился я с Фридрихом и его женою. Я бывал у него, он у меня, мы гуляли вместе по вечерам, в воскресные дни. Не могу судить, что дало ему знакомство со мной; он был значительно старше, опытнее, знания его были обширнее моих, особенно в области международных отношений и послевоенной истории мира. Мне же было с ним очень интересно. Русским языком он владел недурно, хотя говорил с сильным чешским акцентом. В самом начале знакомства он, не желая того, дал мне хороший урок. Мы условились, что я приду к нему в семь вечера, я пришел минут на пятнадцать позже и увидел на двери записку: «Федор Маркович, очевидно, вы заняты и не можете прийти. Мы ушли в синема».
После этого я всегда был точен, как астрономические часы.
Фридрих рассказал мне, что у них люди встречаются не дома, а в кафе-хаусах. Таких кафе-хаусов в Праге много. После работы человек идет в «свой» кафе-хаус и проводит там час или два за чашкой кофе или обедом. В это время его и можно там встретить и с ним поговорить. После этого он идет домой, и уже никто не помешает ему отдыхать в кругу семьи. Домой приходят только близкие знакомые или друзья, и то предварительно условившись. «Прийти домой к кому-нибудь можно лишь после пяти лет знакомства, не меньше», — сказал Фридрих.
Летом меня и его пригласили преподавать на областных курсах пропагандистов в Ялте. Фридрих читал курс экономической географии. Знания его изумляли курсантов. Читал он свои лекции четко и ясно, без всяких записей, все данные знал на память и только иногда заглядывал в свою записную книжку. В 1928 году, уже уезжая из Крыма на родину, он разыскал меня в Симферополе и хотел подарить мне свои серебряные часы. Я решительно воспротивился такому предложению и согласился только купить их у него. Фридрих назвал какую-то цену, очень скромную, я взял часы и только потом сообразил, что цена была лишь символической для таких прекрасных часов. Он уехал, тепло простившись со мною. Больше я о нем не слышал и думаю, что он и его жена погибли, когда гитлеровские войска захватили Чехословакию.
На некоторое время приезжала в Севастополь, жила и работала здесь большевичка Людмила Николаевна Сталь. Видимо, она приехала не только работать, но и лечиться. Жила скромно и просто, я несколько раз бывал у нее, признаюсь, робел, хотя она держалась со мной только как старшая. Она расспрашивала, особенно на первых порах, о людях, о парторганизации. В ее комнате, выходившей окном на Южную бухту, было тепло и солнечно, передо мной сидела спокойная, серьезная, уже седеющая женщина, и, если бы не знать, нельзя было и представить себе, что это большевичка, подпольщица, что она хорошо знала Ленина, выполняла его поручения и была им ценима.
В числе преподавателей совпартшколы выделялся Сергей Иванович Мерзенев. Коренной москвич, он в молодые годы был приказчиком — теперь сказали бы — продавцом — в магазине резиновых изделий. В первую мировую войну он уже был солдатом, сражался на Карпатах. В начале революции стал большевиком. Потом учился в знаменитом Свердловском университете. Серьезно изучал философию, экономические науки. Работал в одном из приволжских городов. Оттуда приехал в Севастополь. Преподавал в нашей совпартшколе и был секретарем парторганизации. Я чувствовал себя с ним на первых порах неловко, — Сергей Иванович превосходил меня и годами, и жизненным опытом, и знаниями. У него была та жилка ученого, которой не хватало мне. Мерзенев мог с необычайным упорством и усидчивостью исследовать проблему, которая его занимала. Помню, как уже после слияния Севастопольской школы с Симферопольской (областной), куда теперь перешел Сергей Иванович, я послал ему письмо с каким-то вопросом о крестьянстве и в ответ получил целый трактат на двадцати с лишним страницах, исписанных мелко и плотно. Надо думать, что Мерзенев дня два, если не три, трудился над своим письмом. Таков он был и остался во всем, уже став кандидатом экономических наук, преподавателем высшей школы: дотошный исследователь, неутомимый работник, ко всякому делу относящийся с полной серьезностью.
Читать дальше