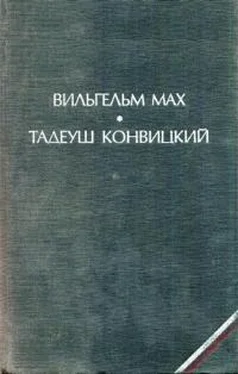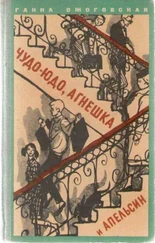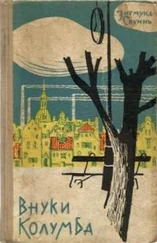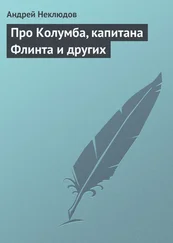Милая Иза, ты слышишь, как скрипит снег под моими новыми сапожками, купленными на вторую собственную получку? Они бы тебе не понравились — слишком топорные, но для здешних дорог и климата самые подходящие. Разве можно в таких показаться у тебя на свадьбе, среди твоих элегантных городских гостей? Прости же меня, прости от души, что я никак не сумела выбраться на твой великий праздник. Он уже послезавтра. Небось вы обидитесь на меня малость, но не беда: я все равно загну оба больших пальца тебе на счастье, как делала на всех экзаменах в «Колумбе». И в мыслях пожелаю тебе и Толеку много-много доброго. Очень вам благодарна обоим, что вспомнили меня и пригласили. Я так рада, что хоть у вас все вышло в точности так, как вы хотели, что вы вместе живете в городе, где есть театры, кино и кафе, и что ты съедешь от Стаха и «у брата хата освободится», хоть, думаю, ненадолго.
Не жалею ли я? Нет. Даже о том, что ни сегодня, ни послезавтра не буду вместе с вами. Одичала я. Все это еще не означает, будто мне здесь хорошо, в том по крайней мере смысле, который вы привыкли в это вкладывать. Напротив, мне очень плохо. Но теперь я знаю про себя и то, что, пожалуй, только так я и могу и даже люблю, что только так мне стоит жить. И должно быть, я окончательно стала чудачкой. Ах, дорогая Иза, что же это я болтаю о себе, когда ты… До этого ли тебе? Сомневаюсь, чтобы ты еще раз написала: я не заслужила. Только не сердись — сегодня никто ни на кого не должен сердиться, сегодня сочельник. Пеки же, Иза, весело и спокойно свои рождественские и свадебные пирожки. Мне их печь не из чего и не для кого. Я чувствую себя классической старой девой с песиком. Флокс, к ноге!
Как он вырос, этот Флокс! Совсем уже большой пес — во всяком случае расти он больше не должен, хоть его принадлежность к спаниелям весьма сомнительна. К чему ты там опять принюхиваешься, песик, чего топорщишь шерсть и ворчишь — никого же нет.
Но едва она прошептала это, как молочную тишину леса разодрал грохот выстрела — довольно близкий, — он прокатился меж разбуженных внезапно деревьев многократным эхом. Испуганно взвизгнув, Флокс кидается к Агнешке и, сжавшись, прижимается к ее ногам.
Да не бойся ты, бравый Швейк! А сама чувствует, что ей вдруг стало жарко не от испуга, но от надежды, ускользнувшей от самоконтроля. Она ускоряет шаг. Флокс жмется к ее ногам и поглядывает на хозяйку с робким, растерянным укором. Ничего ты, песик, не понимаешь. Зачем не замечать в себе того, что на самом деле существует, зачем лезть из кожи? Зачем стараться думать обо всем, кроме этого, о снеге, о зимних каникулах, о Збыльчевских, к которым она ходила, чтобы поздравить их с рождеством, о вспомнившейся на обратном пути далекой Воличке, где осталось столько могил, о «Колумбе»?.. Нет никакого смысла сочинять в голове письма, если не собираешься их писать, если это уже ни к чему. Стоило раздаться в тихом лесу этому ненавистному грохоту, этому самому враждебному из всех звуков, как дыхание и сердцебиение сразу же участились, предвещая радость, в которой она так долго себе отказывала. Не смотри на меня, Флокс. Я человек погибший.
Вот оно, то памятное место на холме. Вот межевой столб и снова прикрепленная к нему противная фигура из жести. Она еще слегка дрожит и позвякивает, с нее еще осыпаются остатки сухого снега. А вокруг много свежих следов, исчезающих, однако, чуть поодаль, будто заметенных широкой метлой. Небось тащит за собой елочку, а то и две. И правда: вот они, две брошенные пихточки, в нескольких шагах дальше, под елью. И веревка, знакомая, ненавистная веревка, обвившая стволы пихточек, тоже, конечно, здесь. Только самого хозяина нет. Вроде бы нет. Вокруг пусто и тихо. Если он вдруг вернется за своей ношей оттуда, куда ушел, она сумеет заметить его вовремя и скрыться. Успокойся, Флокс, у меня тоже есть глаза и уши. Будь начеку!.. А пока он не вернулся… Ой, Иза и Стах, если бы вы только видели меня сейчас, если бы вы только могли себе вообразить, до чего я дошла и чем я тут занимаюсь, чему — да еще как — я успела научиться!
Агнешка распутывает веревку, складывает ее кольцом и взвешивает в руке петлю. Поворачивается, подходит к скрипучей фигуре, с напряженным вниманием разглядывает ее всю и находит сверкнувшее жестью место, где ржавчина осыпалась, находит свежий след выстрела в самой середине полустершегося сердца, нацарапанного гвоздем или камнем. Осторожно, словно боясь причинить боль живому существу, Агнешка сперва трогает эту ранку пальцем, а потом накрывает ладонью. Сегодня на фигуре ничего больше не нарисовано, не накарябано мелом, как некогда, никаких красот, но Агнешка догадывается, кого только что видел стрелок в этом упрощенно грубоватом и бесполом изображении человека. «Это я».
Читать дальше