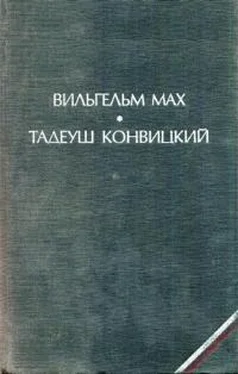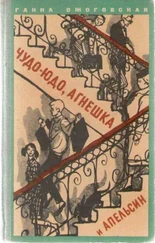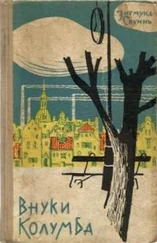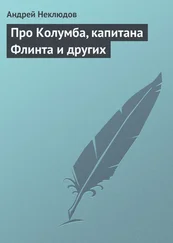Но что же случилось? Почему я уже умею обходиться без вас? Почему не чувствую, что мне вас недостает? Почему, несмотря ни на что, я не страдаю и не тоскую, а лишь нежно и растроганно вспоминаю о вас, все еще милых, но не самых необходимых, какими вы были для меня тогда, в ту первую здешнюю ночь, и еще раза два потом? Неужели я такая неверная? Неужели это все, что осталось от наших колумбовых обетов и клятв? И если я сейчас упрекаю себя, то искренне ли? Огорчена ли я в самом деле тем, что не ответила на три ваших письма: на два твоих, Иза, — очень серьезных, как теперь вижу, то есть по-настоящему дружеских, но в то же время и слишком легких, чтобы когда-нибудь все-таки ответить; и на одно-единственное от тебя, Стах, полученное месяц назад, то есть два месяца спустя после той ночи, когда ты так малодушно и даже трусливо бросил меня, после той ночи, простить тебе которую я смогла быстрее и легче, чем хотела себе признаться, за которую в глубине души я благодарна, но которую никогда не забуду… — только месяц назад, то есть слишком, слишком поздно.
Нет, послушай, Стах, что это за противоречивая двойственность: я так ждала твоего письма, так мечтала о нем, так страдала, что его все нет; я в самом деле так сильно ждала, особенно после того вечера, когда то окно сначала светилось и мне казалось, что это для меня, а потом погасло, и на следующий день в моей жизни началось что-то по-настоящему новое, началась работа — это может значить и мало и много, — началась жизнь, превратившаяся в упорство и безнадежность; я ведь ужасно ждала твоего письма, и оно наконец пришло, и, лишь когда оно пришло, я с удивлением призналась самой себе, что твой последний и единственный шанс, что единственная связывающая нас сила, что последние твои чары держались лишь на этом ожидании твоего письма, удрученном и упрямом ожидании. Письмо пришло, я с непередаваемым облегчением вздохнула, освободилась от своего страха, выдохнула из себя это удушливое, тягостное стеснение, неуверенность, обиду, оскорбленность — ты спас, ты исцелил меня. Это было доброе письмо, и оттого, что оно было такое доброе, сердечное, нежное, горячее, наши отношения могли бы начаться сызнова. Я могла бы тебе ответить в таком же тоне. Но я не ответила. Облегчение, какое принесло мне твое письмо, стало для меня той единственной ценностью, единственно стоящей вещью, которую я не могла подвергать никакому новому риску, никакому новому ожиданию, в чем, как я вдруг поняла, было бы с моей стороны больше себялюбия и тщеславия, больше потребности в том, чтобы меня помнили, чем желания помнить тебя и платить тебе взаимностью.
Это была не любовь, Стах; я вдруг поняла это, когда твое письмо пришло и освободило меня от страха, будто ты для меня потерян; мы никогда не любили друг друга по-настоящему: то ли не умели, то ли не очень старались, то ли только надеялись научиться. Я не ответила — не хотела, чтобы это облегчение было вытеснено чем-то новым, что ты мог мне дать. Вместе с мукой ожидания я освободилась и от остальных иллюзий. Ты писал о любви, но любовь — это не то, что было в твоем письме, это другое, теперь я уже знаю. Я не ответила, чтобы сберечь покой, который принесло мне твое письмо. И я его сберегла, потому что ключ остался в моих руках, а не в твоих. Я сохраню этот ключ на случай дружбы, если между нами возникнет со временем хотя бы дружба, если когда-нибудь мы оба почувствуем в ней необходимость. Хотя бы дружба, а вернее, д а ж е дружба.
Видишь, Стах, что стало за неполных три месяца с твоей маленькой Агнешкой? Я многое о себе узнала. И очень повзрослела, очень. И наверно, подурнела. От летнего морского загара — ни следа. Но вместо него — немного зрелости. Некрасивость переходного возраста. Теперь я, например, понимаю, что всегда была несносно сентиментальной. Но когда признаешь за собой эту слабость, впадаешь в жестокость. С жестокой прямотой я вспоминаю сегодня о наших незрелых, непроверенных, неполноценных чувствах. Однако такие мысли не исключают дружбы, ведь, не будь между нами дружбы, я предпочла бы заполнить свою сегодняшнюю прогулку не тобой, а чем-то другим.
А может, и ты стал думать иначе. Ромек Кондера — тогда на вечеринке ты видел его у нас, только, наверно, не запомнил — говорил мне, что недавно был в городе и встретил тебя на улице с какой-то девушкой, не с Изой — Изу он не забыл, — а с очень красивой девушкой, как он сообщил мне, хоть я ничего и не спрашивала. Это хорошо, Стах. Желаю добра и тебе, и этой красивой девушке. Видишь, как я выросла. Ты и не подозреваешь, как успокаивает этот снег, как тиха эта дорога, идущая через озеро по плотине, та самая, по которой я пришла впервые в Хробжички. Все же я ужасно измучена своим неполным учебным полугодием. Но тебя это не интересует, ты не любишь моей работы. И не только ты. Впрочем, хватит разговоров о тебе и с тобой, Стах.
Читать дальше