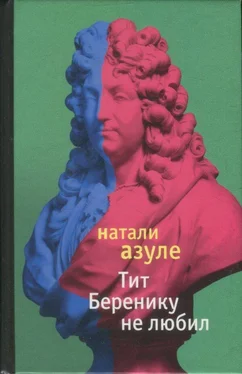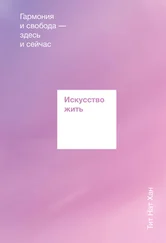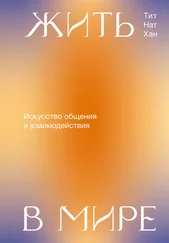Это отрывок из «Георгию» [31] Стихи 232–241. Здесь и далее перевод с латыни С. Шервинского.
Вергилия, который Лансло прочел им как-то утром. Жана потряс «черный песок».
— Вот запустите-ка в наш парк быка! — смеясь, подначивает его маркиз.
— Это будет неправдоподобно, — сухо отвечает Жан.
— Да, но забавно.
— Стихи должны иметь какой-то смысл. Что делать тут у нас быку?
— Наверняка в нем имеют потребность коровы.
— Это такая потребность, о которой нельзя говорить.
— Но Вергилий же говорит…
Учитель объяснил, что у Вергилия были на то основания: он восхвалял труд земледельца, чтобы воспламенить римскую доблесть. И Жан вдруг усомнился, стоит ли ему и дальше прислушиваться к мнению чересчур самоуверенного юнца. Он помрачнел и резко попросил маркиза оставить его одного.
— Хорошо, я уйду, но обещайте, что завтра прочитаете мне свою оду быку!
Несколько часов подряд Жан скребет пером, зачеркивает и опять пытается вообразить, хоть это и нелепо, что будет, если в их аббатство забредет огромный разъяренный бык. Но ничего хорошего в голову не приходит. Наутро он не решается посмотреть в глаза маркизу. Так проходят три дня.
Наконец, после четырех бессонных ночей, у него что-то получилось. После обеда он подзывает маркиза и нетвердым голосом читает:
Грязь попирает он, взревев,
Лоснящуюся под ногами,
И закипает черный гнев
От крови, алой, словно пламя.
— Ужасно! — говорит маркиз. — Птички и те были лучше! Вам не хватает действия.
— Надоели вы мне, — отмахивается Жан. — Попробуйте сами!
— Вы бы хотели, чтобы я, как вы, заделался поэтом?
— О нет!
— Наверное, идея с быком была неудачной, предмет слишком груб.
Жана эти слова утешают. Но в тот же вечер на другой странице «Георгик» ему попадаются строки:
Так-то всяческий род на земле, и люди, и звери,
и обитатели вод, и скотина, и пестрые птицы
в буйство впадают и в жар: вся тварь одинаково
любит.
И он понимает: Вергилий нисколько не груб. И решает отныне не показывать оды маркизу, а приберегать их для писем кузену. Это не значит, что они с кузеном не будут больше изощряться в искусстве беседы — ведь тут от Жана требуется не просто отвечать на вопросы, но подбирать и расставлять слова, как будто это стрелы, способные жестоко ранить, но, если их чередовать и выпускать умело, становящиеся безобидней легких пузырей. Все чаще в письмах кузена мелькают галантные имена, которые присваиваются парижским дамам, говорится о вкусе света к острословию и пасторалям. Рассказывается о домах, где мужчины с женщинами вместе засиживаются и пируют до глубокой ночи и где никто ни разу не помянет Господа. О столичных улочках, салонах и особняках. Мало-помалу Жан пытается вставлять все это в собственные тайные сочинения. И иной раз ему приходится внезапно выходить из класса — так сильно кружится голова.
— Что с вами? — беспокоится Амон.
— Не знаю, может, это оттого, что я слишком много рифмую.
— Так все и говорят о вас. Послушайте своих учителей, возвращайтесь к строгому, логичному мышлению.
— Я хотел бы поехать жить в Париж.
Лекарь рукой упирается в стену.
— Сначала тяготишься каким-то местом, а там уж и дела становятся в тягость, — говорит он. — Живите в Боге.
И, капнув на влажную тряпицу какой-то пахучей жидкости, склоняется и прикладывает ее ко лбу Жана.
— Меня частенько тянет удалиться в молитвенный затвор, более строгий, чем здесь.
Жан помрачнел. Без Амона он пропадет. Он обидел учителя и пытался, закрыв глаза, понять его боль, сопоставив ее со своею. Но раскаяние не прибавило сочувствия к лекарю. Впервые за все время Жан увидел его просто-напросто иссохшим стариком, который ест только хлеб из отрубей — корм для собак — и пьет только воду, а все, что полагается ему, отдает беднякам. Пусть идет куда хочет: хоть к траппистам, хоть к черту! А он, Жан, поедет в Париж. Амон его злости не чувствует. И еще минуту держит руку с растопыренными, чуть дрожащими пальцами над его лицом.
— Если позволите, я вам кое-что расскажу.
Жана мутит от его кислого дыхания, он еле сдерживает тошноту.
— Когда я был маленький, в доме, где я жил, обрушилась крыша и все раздавила. Мне было всего пять лет, но с тех пор не проходит и дня, чтобы у меня перед глазами не возникали эти образы: моя разбитая кровать и прочее. Вокруг меня были одни руины, и сам я должен был погибнуть. Но уцелел по воле Господа. И жить могу только в Боге. Но главное не это. Главное — если бы я тогда умер, то умер бы в грехе.
Читать дальше