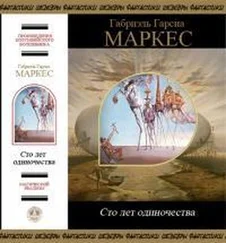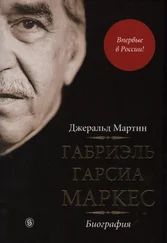Именно тогда в зал ворвался бык. Он принесся, спотыкаясь и оглашая своим ревом этот хлев, переполненный тоскливыми, начисто опустошенными прилавками и полками. Быка домчали до места выпачканные грязью башмаки бесплодного, сулящего неурожай, южного ветра, непрерывно дувшего три дня подряд и вдруг утихомирившегося, стоило только кому-то встать из-за стола и возвестить:
— Через мгновение уже наступит среда!
Бык, напрочь позабывший о времени, — во всяком случае, как нам это представлялось — неожиданно устремился сломя голову, хотя и обегая вероники несуществующих тореадоров, туда, где собрались практически все: мужеподобные женщины-плакальщицы, черт и тот, кто, как и прежде оставался наименее важной фигурой этого представления, — то есть, усопший.
А потом пришел поэт, ради карнавала принявший обличие нищего. И в этом зале, походившем на стойло и исполненном дешевизны, празднословия и убожества, поэт тотчас прочувствовал давно назревавший и почти уже разражающийся скандал, словно ожидающий лишь того, чтобы кто-то облек его в слова и зарифмовал. И поэт воскликнул:
— Вот ты и обрел то, что заслужил! Непутевый, никому не нужный олух и пропойца, пришел тебе конец!..
Но продолжить он так и не смог, поскольку именно в этот момент черт запутался в шпорах, крепившихся к его сапогам. И все присутствовавшие вдруг разом сошли с ума. Их подлинные лица закрывали лица-маски, обтрепавшиеся, дикие и изможденные, поэтому утрата рассудка оказалось самым безобидным из всего того, что только могло с ними приключиться. И вот оно приключилось. И бутыли вдребезги разбивались о бычьи копыта. И шпоры черта вонзались в хребты мрачных и обозленных плакальщиц. Это был настоящий бунт, мятеж всех против каждого! Базисом для революции послужил нелепый мешок с опилками, так и оставшийся, не смотря на то, что творилось вокруг, наименее значительной деталью происходящего.
Когда пришло утро и первый лучик рассвета выхватил из мрака опустошенный прилавок, на котором вообще ничего не было — даже следов спермы, в щедром изобилии исторгавшейся в течение этих трех дней и ночей, — бык с трудом оторвал от стола свою голову, утопавшую в тумане нестерпимой муки, и, проследив своим взглядом за удалявшимися через отворенные двери плакальщицами, у каждой из которых сажей на лбу было намалевано по кресту, издал протяжное и тоскливое мычание, в коем проступала даже некая нотка протеста: «А нашего Хосе — черт-таки взял!..»
НЕГРИТЕНОК НАБО, ОБМАНУВШИЙ ОЖИДАНИЯ АНГЕЛОВ
Набо лежал, не двигаясь, в вытоптанной траве. Он внимал пронзительный запах конской мочи, терзавший тело наподобие наждака. Своей посеревшей и лоснящейся от пота кожей он ощущал обжигающее дыхание лошадей, склонявших к нему свои морды, но самой кожи ощутить не мог, потому что им вообще было утрачено ощущение собственного тела. Благодаря удару подковы в лоб, он погрузился в обволакивающую и недужную дремоту, кроме которой все прочее перестало для него существовать. В этой дремоте непостижимым образом мешались едкие испарения конюшни и сокровенный мир бесчисленных насекомых, снующих в траве. Набо сделал попытку разлепить свои веки, но вскоре вновь смежил их; обретя внутри себя покой, он вытянулся на земле и замер. И так он не пошевелился вплоть до самого вечера, когда чей-то голос у него за спиной проговорил: «Пора идти, Набо. Ты уже совсем заспался». Подняв голову, Набо удивился, что лошадей в конюшне больше нет, несмотря на то, что ворота конюшни были по-прежнему на запоре. Набо уже не слышал всхрапывания лошадей и того, как они беспокойно топчутся на месте; было похоже, что голос, позвавший его, звучал откуда-то снаружи. И этот голос за спиной вновь проговорил: «Истинная правда, Набо. Ты спишь уже целую вечность. Ты спишь три дня подряд». И в этот миг Набо, открыв глаза, внезапно вспомнил: «Я тут лежу, потому что меня лягнула лошадь».
Он все не мог взять в толк, который час. Вполне вероятно, что минуло день или даже два дня с тех пор, как он свалился в траву. Пестрые картинки его воспоминаний стали причудливо расплываться, словно по ним провели влажной губкой; сходная участь постигла и те достопамятные субботние вечера, когда юный Набо слонялся по главной площади городка. Сейчас он уже был не в состоянии припомнить: были на нем в те вечера белая рубашка с черными брюками, или нет? Он совсем не помнил своей зеленой шляпы, всамделишней шляпы из зеленой соломки и даже позабыл, что еще не носил тогда башмаков. Набо отправлялся на площадь субботними вечерами и безмолвно забивался в какой-нибудь подходящий уголок, но не для того, чтобы слушать музыку, а чтобы поглазеть на негра. Каждую субботу он приходил глазеть на него. Негр носил черепаховые очки, крепившиеся к ушам при помощи веревочек, и играл на саксофоне, примостившись за одним из задних пюпитров. Набо постоянно наблюдал за негром, но негр так ни разу и не обратил своего внимания на Набо. По крайней мере, если бы кому-то при известии о том, что Набо приходит на площадь единственно ради негра, вздумалось бы поинтересоваться — естественно, не сейчас, когда все изгладилось из его памяти, а раньше, — замечает ли его негр, Набо ответил бы, что нет. Зато его единственным занятием, помимо ухода за лошадьми, оставалось одно: он глазел на негра.
Читать дальше
![Габриэль Гарсиа Маркес Тризна безумия [Сборник рассказов] обложка книги](/books/389911/gabriel-garsia-markes-trizna-bezumiya-sbornik-ras-cover.webp)