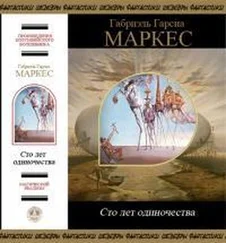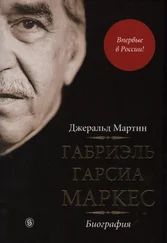Когда самолет достиг в полете высоты восемьсот метров, загорелся зеленый огонечек. Но Иван Петрович уже перестал существовать, и вместо него в хвосте самолета помещался некий номер, затянутый в хрустящую кожу, привычную униформу военных; он пребывал в целом ряду таких же номеров, готовых в определенный момент (по сигналу зеленой лампочки) сигануть в бездну — один за другим. Уже представлялось, как некое мифическое существо, терзаемое бессонницей, начинает неведомо где пересчитывать белых овечек. И стоило только загореться зеленому огоньку, у не могущего уснуть существа упали непослушные веки, которые никак не хотели закрываться, и оно принялось считать: «ОДИН»; здесь Иван Петрович ощутил небывалое напряжение, хотя прекрасно знал, что покуда все до одной овечки не сгинут в пустоте, ему так и предстоит оставаться на берегу в ожидании своего номера. А номер у него был самый последний: двадцать четыре (или пара дюжин овец — минимальная требуемая доза, чтобы заснуть).
Далеко внизу, рассыпанные по студенистому небу, распахивались поочередно лоскутья белого цвета, но, увы, в этом не было никакой поэзии. Самолет еле двигался, не могущее уснуть существо по-прежнему вело счет, все овечки из первого десятка уже вовсю опускались на дно небес, а за ними перенимали эстафету первые овечки из второго десятка. Покуда его друзья неслись к земле, Иван Петрович, нервы которого натянулись как канаты, припомнил слова своего инструктора: «Когда услышите свой номер, — тотчас прыгайте! Потом сосчитаете до десяти и дергайте за кольцо. Как следует дергайте, а не то будет поздно!» И вдруг, в тот самый миг, когда Иван Петрович сообщал себе: «Это я — Иван Петрович», неожиданно прозвучало: «ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ».
После того, как овечка за номером двадцать три исчезла в пустоте, рот мифического существа приоткрылся и раздался храп. Однако следующая овечка, то бишь Иван Петрович, все-таки была сосчитана. И произошло это тогда, когда существо уже впало в забытье, балансируя на грани меж реальностью и сном. Меж реальностью, будучи в которой оно успело-таки подумать про себя: «Двадцать четыре», и сном, в котором самая последняя овечка выглядывала из дверцы самолета и убеждала себя: «Это я — Иван Петрович».
И вот, когда Иван Петрович, со своим парашютом за спиной, ступил вперед, а потом, как его учил инструктор, сосчитал до десяти и дернул за кольцо, увидев, как над его головой распахнулось магическое шелковое небо, — то все это уже отнюдь не предназначалось для взоров некого существа, терзаемого бессонницей, которое наблюдало спуск двадцати трех овечек, а для того, кто уже благополучно заснул и кто перед тем, как заснуть, хоть и удосужился произнести: «Двадцать четыре», однако стал храпеть еще до появления самой последней овечки. И Иван Петрович в ошеломлении осознал, что он не падает, а поднимается вверх, и его притягивает к себе сила, способная легко возобладать над гравитацией, а именно — невесомость, причем даже более свободная, нежели невесомость сновидения. И вполне вероятно, что он сказал себе: «Похоже, что я кому-то снюсь, черт меня побери!»
ТОЧКА. И С НОВОЙ СТРОКИ...
Нам, горожанам, куда как привычен этот металлический глас, объявляющий о наступлении комендантского часа. Опрятные и сверкающие после недавнего ремонта часы Бока дель Пуэнте, вновь вознесенные над городом, утратили свой привычный вид, а с ним и давнишнюю любовь в наших сердцах. Ибо теперь, ночами, мы уже не устремляли к ним своих взоров, моля о возвращении желанного гласа, продолжавшего звучать в наших ушах подобно пению вечной птицы или воспоминанию о том сегменте времени, где мы решились оборвать нить любви; напротив, мы всей душою тщились хоть как-то воспрепятствовать, остановить последним жестом отчаяния этот размеренный и наводящий жуткую тоску ход часов, низвергающий самое время на ту веху, на ту чудовищную грань, за которой наша свобода начинала умирать. Каждую ночь, ровно в двенадцать, воздух оглашал далекий звук горна, возвещавший приход очередного дня, словно обезумевший петух, который заполошно голосит в неурочный час, напрочь утратив чувство времени. И после этого на обнесенный стенами город опускалась безучастная, гнетущая и исполненная особенного смысла тишина. Тишина продолжительная, суровая, необычайная, она пронизала каждый наш позвонок^ каждую косточку нашего организма, поглощая его живые клетки и сокрушая стройность его осанки. Если бы это была доброжелательная, незамысловатая и обычная тишина, знаменующая куда менее значительные события, та привычная и естественная тишина, обвевающая бесчисленные балконы!
Читать дальше
![Габриэль Гарсиа Маркес Тризна безумия [Сборник рассказов] обложка книги](/books/389911/gabriel-garsia-markes-trizna-bezumiya-sbornik-ras-cover.webp)