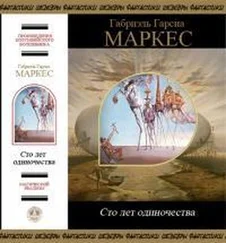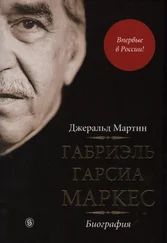Увы, она была иной. Мы восчувствовали ее как ту бездонную и равнодушную тишину, что предвещает грандиозные катастрофы. И, утопая в ней, мы могли внимать лишь мятежному, но бессильному шуму нашего собственного дыхания, словно бы где-то там, в бухте, по-прежнему виднелись готовые к абордажу суда сэра Френсиса Дрейка.
Рассветная пора — особенно для нашего поколения — поэтизирована и овеяна легендами. Еще от своих бабушек мы понаслушались безудержно-фантастических историй об этом забвенном фрагменте времени. Шесть часов, воплощенных в самых разнообразных архитектурных стилях и изваянных из того же материала, из какого творят сказки. Нам повествовали о пламенном дыхании гераней, распустившихся под балконом, через который любовь проникала во сны юношей. Рассказывали, что прежде, покуда еще существовал рассвет, во дворе можно было услышать, как от сладостного нектара гудят стволы апельсиновых деревьев и как сверчок с неизменной пунктуальностью настраивал свою скрипочку таким образом, дабы вплести в творимую им мелодию благоуханную розу любовной серенады.
Но ничего этого в разграбленном наследии наших предков мы не смогли отыскать. Мы унаследовали время, лишенное тех тонкостей, что обращали самую жизнь в поэтическое представление. Нам достался механический, искусственный мир, где техника порождает новую жизненную политику. При подобном порядке вещей пресловутый комендантский час является символом упадка. Между запрещенным звуком горна и обаятельным голосом ночного сторожа времен колонизации существует колоссальная историческая разница. Нынешний глас приходится родным братом тому, что был услышан англичанами после первой бомбардировки Лондона, а поляками — Варшавы. Тот самый глас, принудивший вырыть окопы, откуда встречали убийственным огнем изумленных немецких ребятишек, лишь вчера поменявших свои волчки на пулеметы. И, слыша его, вся Европа погрузилась в тревогу. Услышали его и мы, будучи в полной растерянности от того, что нечто неведомое обрушивается и на наши собственные плечи. В данном материальном мире, где субмарины скоро возобладают над разноцветными рыбками, в данной цивилизации, которой правят порох и горн — кто решится увещевать нас вести себя подобно людям доброй воли?
Но, ко всеобщему облегчению, с минувшей ночи мы перестали слышать сигнал, оповещавший всех о наступлении комендантского часа. Он был отменен именно тогда, когда ему уже удалось стать неотъемлемой частью жизни нашего городка. У многих в душе даже родилась ностальгия по этой фальшивой серенаде, носившей принудительный характер. Теперь к кому-то наверняка возвратится (впрочем, возвратится ли?) привычка ходить по гостям; мы постараемся воскресить милый нашему сердцу обычай встречать напоенную ароматами леса и влажной земли зарю, которая явится подобно новой Спящей Красавице и будет выглядеть атлетичной и современной. А может быть, убежденные в том, что теперь мы можем безнаказанно полуночничать, мы, необыкновенные и противоречивые существа, незаметно уляжемся спать, не дожидаясь того момента, когда стрелки часов перевалят за полночь.
В октябре, как правило, приходит тоска по Лондону, и в первую очередь у тех, кто вроде нас с вами, в Лондоне не бывал никогда. Именно это и творилось с Октавио, однако, его тоска была куда мучительнее, чем наша, поскольку у него было сокровенное родство с октябрем — кровные узы, отягощенные вдобавок непростой наследственностью. Все было так, словно октябрь давным-давно преставился, и Октавио являлся его единственным, здравствующим покуда наследником — или что-нибудь в этом роде. Подобная связь человека с месяцем всегда представлялась мне непостижимой и чрезвычайно запутанной — это было одно из тех исключительных и необыкновенных явлений, пытаться осмысливать которые ни к чему.
В области вкусов у Октавио с октябрем было не слишком много общего. Октавио предпочитал все удобопонятное, — к примеру, число оттенков желтого цвета, суп из спаржи, принцип распределения букв на клавиатуре пишущей машинки и так далее. Среди того, что осталось за границами его понимания, были, в первую очередь, кинокомедии, строго упорядоченные сновидения, а наряду с этим — механизм соотношения участников предвыборных дебатов. Октавио мог понимать или не понимать что-то, но его испокон веков влекло к себе отнюдь не понимание того, что осталось невыясненным, а непонимание того, что было очевидным, то есть, он словно бы являлся ученым наоборот. Единственное, что по-настоящему поставило его в тупик и изумило, — это самый принцип цепи следования машин, которые перевозят горючее. Он упорно бился над его разгадкой, привлекая себе на помощь точные законы механики, однако так и не преуспел в изыскании весомых аргументов для объяснения данного феномена. Это породило сомнение, а с ним и растерянность Октавио перед неизбежностью ошибки — так были заложены основы его философии, позволившей ему до некоторой степени расслабиться.
Читать дальше
![Габриэль Гарсиа Маркес Тризна безумия [Сборник рассказов] обложка книги](/books/389911/gabriel-garsia-markes-trizna-bezumiya-sbornik-ras-cover.webp)