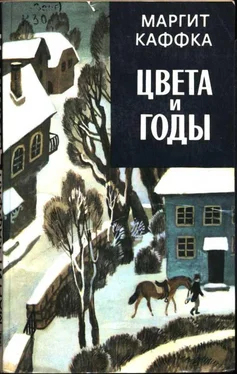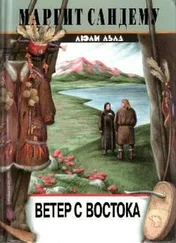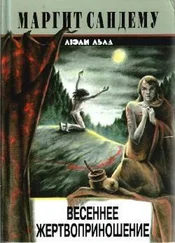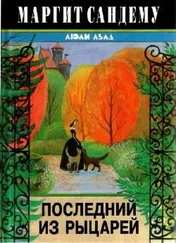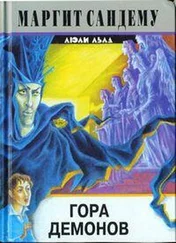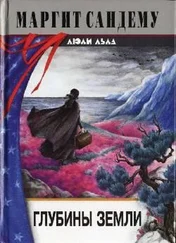Я пошла к матери с новостью. Проникла-таки в избранное комитатское общество, незадачливая головушка… Вот насмешка судьбы! На уме были те, другие выборы, былые грезы и надежды… а теперь не все ли равно? Город стал мне почти чужой, из дома сто лет не вылезала… Эти заново отстроенные после пожара улицы и магазины; эти узловатые старые акации перед уцелевшими, нетронутыми порядками. Вот здесь жили мы с первым мужем. Как подросли эти деревца, это еще он их сажал перед дровяным сараем. Медленно прошла я мимо чугунных ворот у подножья Замка. Там, за оградой, — чаща могучих вековых дубов, лесная тишь, монотонно неизменное, не тревожимое жизнью, аристократически замкнутое спокойствие. Сколько всего со мной случилось, как я переменилась с тех пор, как бродила здесь давным-давно под руку с Денешем, теша себя иллюзиями, выдумывая свою большую любовь. Вот и улица Цифрашор, — садики, стеклянные шары, все по-прежнему; мытный двор, водонапорная башня. А там, за канавой и луговиной, — кладбище, уже осевшая могила бедного Водички и покосившийся мраморный крест с золотыми буквами: «Светлой памяти сыну от безутешного отца»…
Сколько всего, неизменного и когда-то близкого, видевшегося совсем в ином свете. Эх, да что говорить, так и так бы прошло! Одна осталась забота: Марчу, Жужу да Клари вырастить, чтобы их тоже не затянула трясина, чтобы встали на ноги, — пусть отвоюет себе место хоть потомство мое.
— Значит, девочки смогут поступить в гимназию. Вот мое желание, и я его осуществлю, если доживу! Пускай учатся на врача, учителя, специальность будет, как и у мужчин.
Кисло-безнадежная улыбка сморщила пожелтелые, обтянутые скулы лежавшего в постели больного Петера Телекди.
— Чепуха это все! Совершенно беспочвенная мания профанов. Самка всегда останется ниже организованным существом, иначе быть не может. Ведь у нее две трети жизни отнимают примитивно животные заботы, связанные с продолжением рода, и разум управляется инстинктами. Освободись она от этого — и потеряет всякую цель; станет неприкаянным, никчемным уродом, нелепым и несчастным. Женщина — слепое орудие природных сил, еще не осознавшее себя, наполовину вегетирующее, подобно растению. Вся ее ценность — непроизвольное очарование, красота цветка; скрытая плодоносящая сила семечка, ждущего своего часа. В этом согласны все философы от Платона до Спинозы, до Канта, Шопенгауэра и Ницше. Только нынешний, больной от просвещения век заигрывает с этой мыслью, пытается принимать женщину всерьез.
Вот как он заговорил, вразрез с прежним, явно этого не замечая. Бедный фантазер! Уже два года, обложившись книгами, лежал он весь в гнойниках, с желтым нездоровым лицом. Собственные маньякальные идеи об укреплении здоровья наградили Петера этим недугом. Увлекшись водными процедурами по Кнайпу [52] Кнайп Себастьян (1821–1897) — немецкий священник, лечился изобретенными им водными процедурами, которые описал в книге «Мое водолечение» (1887).
и гимнастикой, он стал еще пить отвары каких-то кровоочистительных трав и парное молоко по деревням, где бывал по долгу службы в управлении кадастров. И болезнетворный грибок, который в человеческом организме обнаруживают чуть не раз в столетие, бурно пустился в рост в его хилом, вырождающемся дворянском теле. Это было какое-то заболевание крупного рогатого скота, которое передалось через некипяченое молоко.
Мама с мирно-безмятежным, почти безучастным терпением ходила за ним. Привыкла, что лежит себе, ничего особенно не требуя; а ренты хватало на прожиток. Петер только читал, растолковывая что-нибудь время от времени маме, которая нет-нет да и задремлет под его объяснения. А потом вскочит и по давней склонности к врачеванию, с повадкой прирожденной знахарки примется смазывать, очищать, перевязывать гноящиеся язвы или готовить традиционные венгерские блюда в угождение мужу, — а то и разносолы, всякие тонкие деликатесы по замысловатым рецептам, которые Петер диктовал из старинной, чем только не напичканной французской поваренной книги. «Пускай его, бедняга, если нравится; это для вкуса только, язык просит, а желудок и не варит уже!..»
Оставалось только удивляться, глядя на мать. Она была верна себе: тот же нрав, прежняя юмористическая жилка. Нипочем не желала она воспринимать жизнь серьезно. А ведь какие ее постигли удары. Один сын в сумасшедшем доме, и ничего о нем не слышно. Другой объявляется иногда, но что из того, если совсем опустился. Бродит проселками и просит подаяние, а то, допившись до бесчувствия, окажется в канаве или в больнице. Там его выкупают, отходят, откормят, и какой-нибудь амбициозный врач, прознав, кто он и что, примется испытывать на нем разные способы лечения алкоголизма, оденет в свое старье, и за хороший почерк и манеры Чабу еще подержат, давая кое-какую работу, окружая сочувствием и ободряя. Но через месяц, два опять затрясет запойная горячка, — только его в больнице и видели; пойдет заливать жажду в самых грязных распивочных, спуская все вплоть до пиджака и рубашки, а потом в драном пальто на голом немытом тело вырастет на пороге, изрыгая ругательства и проклятья. Как угнетало вдобавок еще и это! Ждать его, заранее, за много недель томясь от смешанного с жалостью отвращения, терзаясь ночными кошмарами: вот придет и нужно на него смотреть, кормить и терпеть, пока бродяжнический инстинкт не проснется и не позовет опять в дорогу. К нам он заявлялся то с мольбами и слезами, то хвастал, горько виня всех и укоряя, то с ребячливостью дурачка играл с девочками и — ел, ел с волчьим аппетитом. Однажды прошел слух, что он пристал к цыганам из Румынии и вступил даже в племя, женясь на какой-то Дилине. «Браво! — чуть не захлопала в ладоши мама. — Буду невестку в гости ждать. От нитки кораллов или платка я бы не отказалась!» Вот как она откликнулась на это, — очерствела совсем или легкий нрав выручал?
Читать дальше