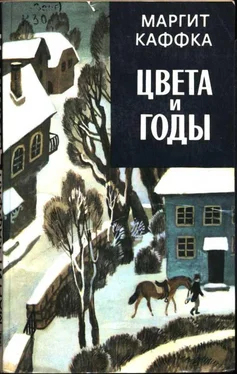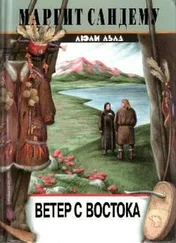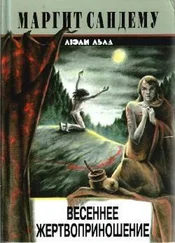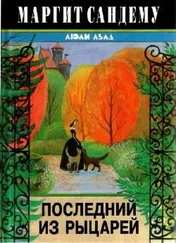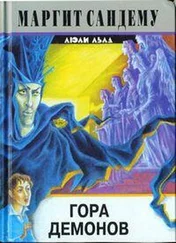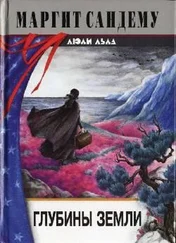А мы очень извелись. И он, бедняга, тоже. Вновь и вновь вдумываясь сейчас в его положение, ощущаю я и его правоту. Он ведь сам испытывал чувство подневольности, будто попался нечаянно в ловушку, будто незримые цепи тяготеют на нем, стягиваясь все туже, и ничего не поделаешь; вот и нашел во мне козла отпущения. В самом деле: жил же он холостяком легко, изящно, прилично, несмотря ни на какие долги; некрасивое, безобразно грубое, пошлое проступило в нем, думаю, лишь после женитьбы, поднявшись на поверхность из тайных, полузабытых глубин. А он решил, что это я его испортила, кровь его сосу, корпеть заставляю над постылой работой. Да, бедность была всему причиной, Она одна!
Жить становилось труднее и труднее. Все дорожало, а девочки росли, и тратить приходилось больше. В городе появилось несколько новых стряпчих, предприимчивых и полных сил дипломированных карьеристов, хотя профессия эта перестала быть такой легкой, прибыльной, как когда-то. Болотные земли мало-помалу были размежеваны, осушение близилось к концу, перейдя целиком в руки любимца молодого графа, Имре Шерера, который, надо отдать ему справедливость, повел дело ловко, изобретательно и быстро. Присинерцы получили льготы, и главные распри уладились; только пострадавшие крестьяне так и остались ни с чем, куда же им было адвокатов нанимать из своих поуплывших двух-трех сотен форинтов выкупа. Они предпочитали уезжать в Америку, бросив все, как есть.
Итак, адвокатам приходилось туго; у Денеша зачастую месяцами не было никаких дел, кроме мелких кляуз, или перепадет несколько форинтов за какую-нибудь судебную формальность благодаря дяде Иштвану, комитатскому нотариусу. И жить было не на что, мы прятались от мясника и бакалейщика, которым задолжали, а языкастая прислуга в ответ на мою брань бросала мне в лицо: «Жалованье бы лучше заплатили». И если случалось дело поденежней и я проведаю, тотчас примусь тянуть из Денеша, сколько уж удастся. И вымогаю, на детей выклянчиваю, и выкрадываю на платья, обувь, на лак для полов, на какую-нибудь дешевую, но эффектную (бог мне прости!) мазню на стенки или на цветы, вышитые крестьянские салфетки и рушники. Ибо я всегда была и осталась привержена к этой невзыскательной, бедной, но радующей душу красоте, чистоте вокруг, приятному запаху и уюту в комнатах, к аккуратно накрытому столу и белой скатерти, начищенным до блеска мельхиоровым вилкам и безупречно вытертым стаканам. И что ни говори, Денеша тоже радовал и привязывал к дому этот порядок, к которому он привык, живя со мной, — свежие простыни, накрытый по всем правилам стол, прибранные трубки, каждый день чистый песок в обернутой вырезной бумагой плевательнице… И моя готовка, — какими бы трудами ни добытая, ни отвоеванная, но всегда сытная и вкусная пища. Я это знала и, не колеблясь, отбирала и тратила деньги, если были. «Он же все равно спустит!» Экономить, откладывать, — кому у нас могло это в голову прийти? Мы рады бывали, что без суда и судебного исполнителя обходится, без судебных издержек. Откуда-то, буквально из-под земли (и всегда в последнюю минуту!) Денеш раздобудет-таки денег, и неделю опять мир и тишина. Никогда я не знала, сколько он зарабатывает, кому и сколько должен и сколько утаивает на свои развлечения; какая же тут могла быть между нами солидарность.
Само собой как-то получилось, что все-таки стала я выходить, просить за него, искать сторонников и покровителей. Очень уж мы тогда бедствовали, и я думала: не сегодня-завтра конец, развязка; не может же тянуться так всю жизнь. За все мое долгое супружество с Денешем меня не покидало ощущение временности. К той поре все были уж скорее на моей стороне: жалели меня за страдания, за жестокую борьбу за существование, которую я вела; хвалили, — с какой настойчивой волей воспитываю, одеваю дочерей, содержу дом и тому подобное. Общественное мнение, кажется, сочло, что за свои грехи я уже достаточно поплатилась. И у кого-то, посторонних мне людей, возникла идея: близятся новые выборы, освободилось место товарища прокурора, надо пристроить горемыку! Пусть будет хоть маленькое, но твердое жалованье. И его приятели-помещики, кому он десять лет помогал шумно, весело прожигать жизнь, кого до слез, бывало, пронимал игрой на скрипке, несмотря на больную, плохо повинующуюся руку — и кто с некоторых пор стали с жалостью, со стесненным сердцем садиться с ним за карты, стыдясь отобрать последний форинт, — теперь все-таки постояли за него. С чувством, с одушевлением в один голос выкликнули Хорвата, — прозвучало это почти что погребальным салютом. Ах, бедняга, бедняга! Даже вконец обнищав, опустившись, со всеми сумел он сохранить любезность, подкупающую легкость в обращении, только в семье был нехорош, только ее тянул за собой. Не создан он был для брака.
Читать дальше