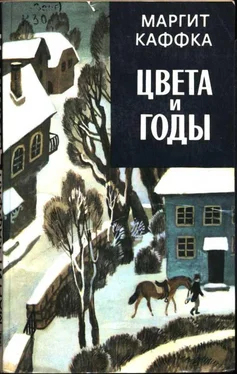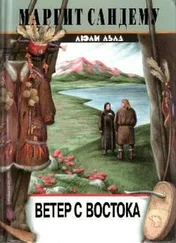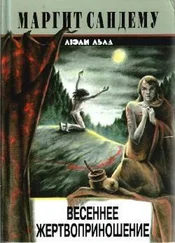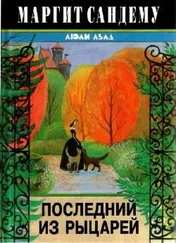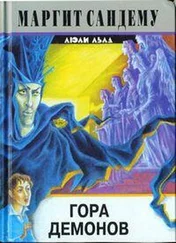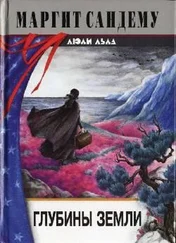«Душеньки мои, доченьки, только бы вас обучить! Чего бы мне это не стоило! Можете совсем по дому не помогать, сама вам поесть приготовлю, и подмету, о уберу, руки у меня привычные, загрубелые, поясница крепкая, наломанная, мне уже нечего о фигуре думать. Вас бы только поднять, к лучшей, удачливой жизни приготовить, чтобы сами собой располагали, не зависели и не унижались никогда ни перед каким мужчиной, — не были прачками-поденщицами ни при ком, собаками, которых можно пнуть… Вы только знайте учитесь, для этого я хоть последнюю подушку продам!»
И я взяла на харчи школяра, бедняка, но умницу, подготовить их к гимназии. Марча с Жужей уже посдавали экзамены. А Клари унаследовала музыкальные способности отца, и я, в рассрочку, по пять форинтов ежемесячно, купив разбитый, дребезжащий старый рояль, сама стала давать ей уроки. И работать, работать, опять только с одной прислугой, тужась, надрываясь, из последних сил. Питались мы, правда, хорошо, это было непременным требованием Денеша, тут он не скупился, — еда стала занимать важное место в его жизни. Он располнел, двигался мало, сидел все с трубкой; привык выпивать и дома, — до того, что одутловатое лицо багровело, глаза наливались кровью, а нижняя губа отвисала. Так, бывало, и заснет, прямо в кресле, и дочери спящим разденут его и уложат. «Не стоит с ним и браниться!» — подумаю и оставлю несчастного в покое. Иногда мы по целым неделям почти не разговаривали друг с другом.
Бег времени, течение лет, смену времен года стала я с той поры примечать, отсчитывать только по дочерям. Вижу, как вытягивается Марча, стройная гимназисточка в красиво обхватывающей бедра расклешенной юбке до самых ботинок. Как покраснеет вдруг до корней волос молоденький репетитор, когда Жужка с притворным вниманием, словно стараясь схватить нужное произношение, остановит на его лице дивные свои глаза. Слышу, как двенадцатилетняя Клари, уже без прежней охоты, садясь за рояль, бледненькая, расстроенная, говорит: «Мне бы на таком поиграть, как у дочек тети Агнеш. Совсем другой звук! А нот у них сколько, и все дорогие… Зато слуха нет».
Они росли, подрастали, а до меня, моих седеющих волос и глубоко запавших глаз, до морщинок у рта кому же было дело. Мое постепенное увядание оставалось никем не замеченным, и я сама давно уже бросила ждать от жизни хоть чего-нибудь, чем вознаграждается обычно моложавая внешность, сберегаемая уходом красота.
«Да ведь у меня сын взрослый, право изучает в Пеште!» — спохватывалась я в изумлении и замешательстве. Ну да, выросший у деда с бабкой сын Иштван, который неизменно и очень пунктуально — к Новому году, на день ангела и после экзаменов — присылает вежливые поздравительные и уведомительные письма. Как поздравлял еще ребенком… и пишет в той же механической, разве что стилистически более сложной манере, какой обучили его в раннем детстве, — ни непосредственности не прибавилось, ни сердечной теплоты. Да и откуда им взяться, чего другого ждать? Сколько уже лет воспитывал его, единственного внука и наследника, старик Водичка и конечно же, на собственный упрямо-закоснелый манер. Какую любовь мог он привить ко мне, далекой матери, которую всегда так ненавидел и от которой, наверно, вольно или невольно, не прочь был еще больше отдалить ребенка. Я платила ему теми же чувствами: старик был моим злым гением; а сына все-таки отдала. Но я тогда не могла иначе, да и для ребенка было лучше. Дед заявил ведь, что по собственному усмотрению хочет воспитать мальчика, взамен потерянного сына, — и заботиться о нем будет, если я целиком устранюсь, не стану вмешиваться, а не то наследства лишит. В моих ли силах было противиться, тащить его к себе, в эту жалкую нищету, обрекая неизвестно на какую участь? «А сердце-то материнское; сердце не обманешь, не прикажешь ему», — с пафосом возразят адепты чувствительных книжек.
Да, конечно, но я вправе до конца высказать то, чему научила меня жизнь, ее запутанную, неприглаженную, жестокую и грубую правду. Материнство — не только инстинкт, мы как-никак не совсем животные. Это на добрую половину социальное чувство: решимость и обязательство. А кроме того, многое и от натуры ребенка зависит. Мы ведь вступаем в брак с чужим человеком и детище наше — одновременно не наше: иная кровь, природа, все существо… Однажды сына — бедняжка свекровь была при смерти, и ее везли в Пешт на операцию, — оставили у меня, и он прогостил у нас дней десять. Было ему лет двенадцать… дочки совсем еще крохотные. Помню, с каким пытливым ожиданием вглядывалась я в это изменившееся, полузабытое личико, как искала и всячески будила в себе высокую материнскую привязанность, трагическую нежность и боль. Но единственно лишь удивление, бесстрастно уважительное удивление вызывал у меня этот корректный маленький незнакомец и его безукоризненно примерное, капельку словно бы заученно добродетельное поведение. Оно (тщетно я с этим боролась) воскрешало только чувство отчужденности, — давнюю и давно подавленную, но в дурные минуты безотчетно подымавшуюся антипатию к его отцу… Да, да, он походил на отца, а особенно на деда. Простилась я с ним опять со слезами, на сей раз, однако, оплакивая лишь иллюзию любви к нему, только благодаря разлуке сохранявшуюся так долго. А про себя чуть не вздохнула с облегчением: снова одна, со своими . С дочерьми, которые появились у меня уже в зрелом возрасте, когда я успела стать человеком, женой, матерью, многое перестрадав душой и смирясь телом; появились по собственному желанию, а не случайно, став содержанием жизни, — содержанием, долгом и гордостью, связывавшей с ней. Которые выросли рядом, при мне, — моими трудами, заботами, волей… воплотив честь мою и единственную удачу.
Читать дальше