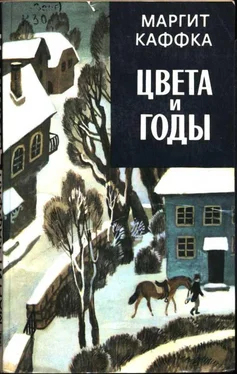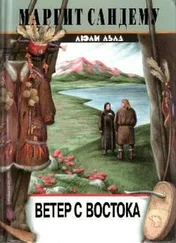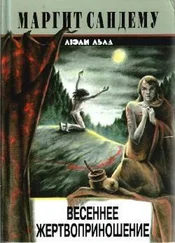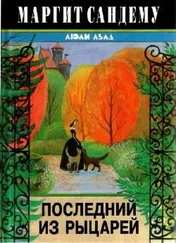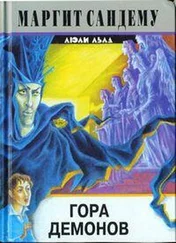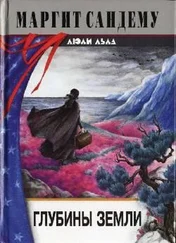Неловкость меня отпустила; оттаяв, шла я обратно к высоким воротам. До будки садовника за мной молчаливо следовал лакей, — чтобы не заблудилась в лабиринте тропинок, в чаще деревьев, чьи пышные кроны, мощные стволы или заснеженные, заиндевелые сучья притягивали мой взгляд из-за ограды в решающие дни жизни. «Какими незлобивыми, бархатными, шелковыми ухитряются до самой старости оставаться эти вельможи! Добротой извиняются за свое богатство и за то, что жизнь не поворачивалась к ним оборотной, грубой, нищенски площадной стороной. Да только разве можно тогда понять эту самую жизнь, земную жизнь и людей?..»
Я направилась к матери: Петер Телекди совсем, бедняга, стал плох. «Якоби говорит, день-два, больше не протянет!» — шепнула мне на террасе мама. Она не плакала; с печально невозмутимым лицом тихо сновала, приготавливая кофе, которое этим теплым осенним вечером мы выпили в саду, под шелковицей. Листья медленно падали, ложась перед нами на скатерть. «Зайдем к нему на минутку!» — предложила мама и стряхнула крошки с фартука.
Слабые косые лучи предзакатного солнца падали на кровать больного, медленно гаснущим розоватым ореолом окружая иссохшую, с кулачок голову на белой подушке, худые плечи в непомерно широкой рубахе. Желтое бритое лицо было неподвижно, колени подтянуты вверх, старенькое стеганое одеяло возвышалось холмиком. Так навзничь лежал он почти четыре года, кротко, послушно, как несчастный, скорченный младенец.
Мы тихонько присели к окну, думая, что он спит. Вот уже несколько дней, как Петер замолчал, это я знала от матери; а перед тем все говорил и говорил, по многу раз объясняя, растолковывая предусмотрительно свою последнюю волю. Похоронить в деревянном гробу, чтобы скорее истлели, ассимилировались землей его бренные останки. Однако против надгробного слова он не возражает, пускай произнесет телегдский реформатский священник, старый однокашник Петера по заграничным университетам, таково его пожелание. Но венков, цветов на могилу не класть и мраморного креста не ставить, в склеп же семейный тем паче не переносить. Чуть ли не утехой были ему все эти распоряжения, остальное уже мало его занимало. Всю философию, все высшие творения человеческого разума прочел и пережил он за эти четыре года, созерцая одни и те же узоры на потолке.
Вдруг бледная восковая рука приподнялась, неуверенно блуждая над столиком с курительными принадлежностями, будто призрачная птица, парящая в полутьме. Мама подошла, зажгла сигарету, вложила ему в пальцы и молча присела у изголовья. Я следила за огненной точкой, которая с усилием, неровно, как в агонии, вспыхивала в сгущавшихся сумерках. «Закури, голубчик… и ты», — чуть слышно, натужно прозвучала ласково-смиренная просьба. Они задымили оба, — мама, правда, только для вида, не сводя глаз с больного. Подушка, одеяло бледным расплывчатым пятном выступали из полумрака, будто странное туманное облако. Нависла глубокая тишина.
Внезапно мать встала, приблизилась к нему, мягко, нежно коснулась лба, лица, помедлила немного и вернулась к окну. «Уже похолодел», — сказала она шепотом, опустив голову, и я увидела слезы на ее щеках. В опущенной руке она держала недокуренную сигарету, которую высвободила из коченеющих пальцев. Бережно отнесла ее мама к столику и с предосторожностями положила в ящик, — сохранить как грустную драгоценную реликвию.
Петера погребли согласно его желанию. Многочисленные городские знакомые провожали его в последний путь, почтив безмолвной печалью на кладбище. Все уже как-то свыклись с тем, что Петера словно бы и не существует. Был он уже немолод, прежние сослуживцы после его ухода на пенсию успели о нем позабыть, про маму же было известно, что у нее маленькая годовая рента и с голоду она не помрет. Так что ей от души пожелали немножко вздохнуть теперь, хваля в один голос ее преданность больному и терпение. «Ну, вот, черед за нами! — пробормотал вечером Денеш, трясущимися руками набивая трубку. — Уходят, уходят, много народу ушло. Там уж отдохнут. Что ж, будем своего часа ждать, ничего не попишешь. Каждому свой срок определен!..»
Но ему самому все это еще не мешало со вкусом посасывать чубук и смаковать, причмокивая, доброе столовое вино. Бывало, достанется бочоночек в счет гонорара за какой-нибудь высуженный патент на виноторговлю, так он уж празднует, не напразднуется, поднося к лампе стакан, рассматривая на свет его золотистое содержимое. А иной раз я только диву давалась, глядя, какие порции жаркого и всякого вареного теста поглощает он за ужином. «Болезненный аппетит!» — мелькало в голове при виде его сине-багрового лица, толстой раздувшейся шеи… Однако не заставляли себя долго ждать и недели поголодней, когда на стол мне опять выдавались мизерные суммы. А однажды Денеш вообще не пришел ужинать домой, снова где-то застрял. «И на чьи это он деньги угощается, у него и полфоринта с собой нет!» — устало недоумевала я.
Читать дальше